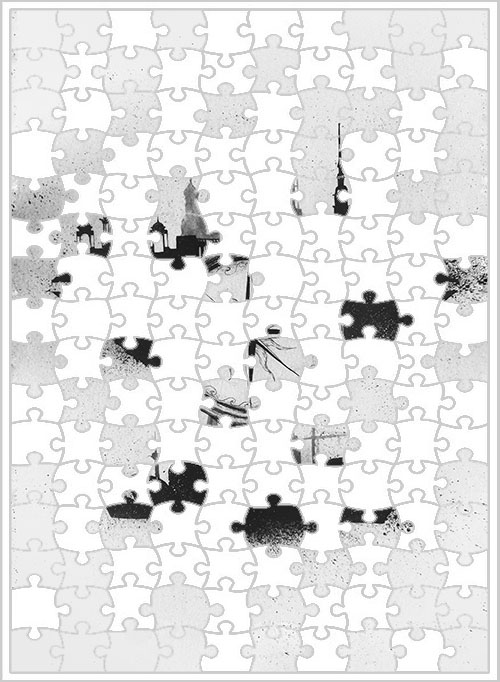***
Первой от Славы пришла телеграмма.
— Пляши, Машка! — встретил их с Егоркой вечером Петрович.
— А можно я? — спросил Егорка.
— Можно и ты, а можете и вместе!
— Петрович, отдай.
— Ты меня глазами этими коровьими не бери — и не такие я видал. Давай, давай!
Петрович помахал телеграммой, и Маша ловко выхватила её из его рук.
— Так, значит, вы со стариками, да?
Он что-то ещё говорил, но Маша не слушала — сняв шапку, села на подставку для обуви и раскрыла листок.
«Письмо выслал тчк пока дойдёт зпт решил телеграммой тчк доехал хорошо зпт люблю зпт скучаю вскл»
Егорка сидел на полу и стягивал бурки. Пальтишко, шапка, шарф и рукавички уже валялись на полу: раздевался Егорка уже сам, но до вешалки не доставал.
— Что там, мама?
— Слава пишет, что доехал хорошо.
— А почему он нам пишет? Мы за него волнуемся?
— Ну… мы же познакомились с ним и… ну… подружились…
— Он папкой моим будет?
— …
— Ну я не против. Он мне понравился.
— И мне, — добавил Петрович, — я тоже за.
— Чтоб он был твоим папкой? — удивился Егорка, — Мама, ну что ты, плачешь, что ли?
А Маша, всплакнув немного на вокзале (думала, что никто не видит), с тех пор держалась. Даже ночью, когда никто не видит и, вроде как, можно было бы (и хотелось), но вот чего реветь? Ну не на войну же проводила, правильно? Расстались, подумаешь. Не навсегда же. Вот если бы навсегда, то тогда можно было бы, а так реветь — только беду кликать. И привыкла уже, настроилась, а тут словно голос его услышала и не удержалась.
— Всё хорошо, Егорка, — она обняла сына и уткнулась носом ему в шею, — всё хорошо, я так просто, устала, сейчас пройдёт.
— Одно слово — бабы! — резюмировал Петрович и принялся развешивать Егоркины вещи.
Первое письмо пришло вскоре за телеграммой. И, когда Маша распечатывала конверт, из него на пол выскользнуло фото. Егорка подхватил его и рассматривал, пока мама читала. На переднем плане были двое мужчин — Слава и ещё один, незнакомый, оба в белых рубашках с погонами (шестнадцать — сосчитал Егорка все звёздочки) стояли, обнявшись, и улыбались в камеру, а сзади, за ними кто-то дурачился и показывал язык, но был он не в фокусе и видно его было плохо.
— А кто это со Славой? — спросил Егорка маму,
Мама глянула мельком (ещё читала письмо):
— Он пишет, что это его друг Миша. Они вместе служат и живут в одной комнате в общежитии — он у него и гостил, когда с нами познакомился. Ты смотри, а они похожи, да?
Они и правда, можно было подумать, что братья: оба высокие, худощавые, с тёмными волосами, блестящими глазами да ещё и одинаковая форма — почти и не различить, если не знать одного из них поближе.
В письме Слава писал, что ужасно скучает и как жаль, что у них нет телефона (на следующий день Маша уговорила Петровича, как ветерана, подать заявку на установку, и заявку приняли, но установили нескоро), так хочется голос её услышать, и кажется, что от этого стало бы легче, а ещё он собрал им посылку из своих запасов и на днях вышлет, и уже ждёт письма от Маши, а его всё нет и нет, но он понимает и не торопит, ясно же, что дела, заботы и жизнь вообще, и надо же отдыхать Маше, но, всё-таки, если она напишет, то будет просто замечательно, а ещё, если это возможно и удобно, может, у неё фото есть, а то он видел, что есть, и хотел было украсть, но потом стало неудобно, а просто попросить забыл, вернее, вспомнил, но было уже поздно. И ещё, конечно, он писал про любовь и про то, как всё-таки ему повезло, что они встретились.
Ну вот чудной, подумала Маша, как бы я тебе написала, если я и адреса твоего не знаю? И села писать ответ. Первое письмо показалось ей скучным, и она его порвала. Во втором, перечитывая, нашла три грамматических ошибки, и одну удалось исправить незаметно, а две другие превратились в помарки, и пришлось всё переписывать, потом, пока переписывала, пришла в голову ещё одна мысль и в итоге ответ её, который она планировала отправить назавтра, растянулся на три дня. Как раз пришла посылка от Славы.
Распечатывали все вместе: Маша, Егорка и Петрович, у которого был гвоздодёр, а потом он и остался — не чужой же.
В посылке были: игрушка для Егорки (набор революционных матросов), стопка шоколадок, несколько банок икры, вяленая вобла (если сами не едите, то отдайте Петровичу, а, если едите, то поделитесь — инструктировала записка, вложенная в посылку), сгущёнка, ещё какие-то консервы и пакет конфет.
— Всё ясно, — сказал Петрович, — подводник он у тебя.
— Откуда тебе это ясно?
— Ну сама на набор посмотри: или подводник, или на складе где приворовывает. Но рожа у него приличная, на крысу не похож. Значит, — подводник. Я тебе говорю.
***
— Маша твоя? — Миша заглянул сверху вниз на фото, — дай погляжу.
Слава сидел на кровати и читал письмо. Они только что пришли со службы, и Слава только разулся, снял шинель и расстегнул китель, и уселся читать— ждать больше не было сил. Миша же переоделся, сходил умыться и поставил греться суп на плиту.
— Да она вообще красавица у тебя! — Миша рассматривал фото — Как тебе так подвезло-то? И эти (Миша показал грудь) такие ого!
— Миша! Фу! Дай сюда фото! Одно у тебя на уме, пошляк!
— Вот уж совсем и не одно, но и это — в том числе! А чего сразу пошляк-то, ну ты вот и внимания не обратил на это ни разу, да?
— Ну при чём тут это?
— А что тут причём? Характер у неё золотой? А ты его знаешь, характер тот? Сам-то втрескался за красоту, в том числе, и за сиськи, а пошляк — так Миша! Ну вы подумайте, какие мы все нежные тут, а? Суп-то будешь? Наливать на тебя?
— Наливай, но лучше не на меня, а в тарелку. Что там у нас гороховый брикет опять?
— А ты другого свари, раз тебе брикеты мои не нравятся! Я в него картошки даже накрошил — не суп, а наслаждение!
Ели сначала молча.
— Слушай, а пацан вот с ней — это сын её?
— Ну а кто? Понятное дело, что сын.
— И как ты к этому относишься?
— К чему «к этому», Миша?
— Ну что ребёнок у неё чужой?
— Что значит «чужой»?
— Ну то и значит, Слава, что не твой.
— Подожди, я вот сейчас плохо тебя понимаю, а как я могу к нему относиться?
— Слава, ты не заводись, я тебе сейчас объясню давай: ты можешь на него не обращать внимания, терпеть или, например, попробовать полюбить. Ты же сейчас по уши, это понятно. Но это же ребёнок, а не котёнок, ты же понимаешь, что он навсегда?
— Нет, блядь, Миша, я в детдом его сдать планирую!
— Но на вопрос-то ты мой не ответил, не думал об
этом — признайся?
Слава отложил ложку:
— Не думал, да, но и думать не собирался. Он же её ребёнок — так? Так. А значит, если я её люблю, то и ребёнка её люблю, что тут думать? Да и парень он мировой — вот увидишь, вы с ним подружитесь!
— Да мы-то подружимся, в этом я и не сомневаюсь. Я про тебя спрашивал, но теперь спокоен, вижу, что психуешь, значит неравнодушен.
Миша отодвинул тарелку и встал.
— Тарелки тебе мыть! Во-первых, я грел, а во-вторых, морской закон — кто последний, тот и папа!
— Э, а доедать кто будет?
— Дедушка Ленин в обществе чистых тарелок, а я — сыт!
Миша взял с полки книгу и повалился на кровать.
— Тем более, что ты вот с Машей теперь, тебе и посуду мыть в радость, а мне продолжать страдать от одиночества и ждать свою королевну неизвестно сколько! Пожалел бы меня… Друг ещё называется!
***
Дальше дни замелькали, как деревья в окне скорого поезда: к концу декабря готовились сдавать последнюю задачу и в феврале идти в автономку, и поэтому дни хоть отличались один от другого, но были так загружены рутиной, что, оглянувшись назад, было их и не различить. В следующий раз Слава с Машей встретились на Новый год.
***
Слава прилетел тридцать первого в обед и гордо сообщил, что вырвался на целых три дня и обратно полетит аж третьего с утра.
— На два с половиной выходит! — машинально поправила его Маша.
Она отпросилась с работы, не было сил ждать до вечера.
Шли от метро домой, и Маша обнимала его с одной стороны, а Егорка топал, держась за ручку чемодана, с другой.
— И то хорошо! Мишка выручил — отстоит за меня вахту второго, а то и вовсе на день только получилось бы! Надо, кстати, к маме его съездить, он тут подарки ей передал. А давайте сегодня и съездим?
— Да ты отдохнул бы сначала, поел, в душ сходил.
— В душ можно, да и поесть тоже. А отдыхать от чего мне? Я же педали в самолёте не крутил.
— А в самолёте есть педали? — удивился Егорка.
— А как же. Специальные такие, чтоб люди, которые хотят, могли из самолёта уставшими выходить!
— Шутишь? — не поверил Егорка.
— Шучу, Егорка! А ты Деду Морозу письмо писал?
— Писал.
— Сам прямо?
— Ну нет, мама помогала.
— И что попросил у него?
(Слава уже знал, конечно, но вида не показывал).
— Игру такую с машинкой, которая сама едет, а ты настоящим рулём управляешь!
— Ого! Надо же, до чего прогресс дошёл — и такое бывает?! Вёл ты себя хорошо, маму слушался… Думаю, Дед Мороз тебе пойдёт навстречу!
— Думаешь?
— Практически уверен!
(Слава выслал Маше деньги неделю назад: игра уже была куплена и спрятана).
Слава наскоро сбегал в душ (пока Маша варила яйца для оливье), потом они провели ревизию продуктов, сопоставили их наличие с меню и оказалось, что в наличии есть всё. Не откладывая на вечер, нарезали оливье и, не заправляя, чтоб салат не засопливел, убрали в холодильник. После усадили Петровича резать бутерброды, мазать их маслом и укрывать икрой (смотри, сказала Маша, чтоб красиво было, а то Дед Мороз подарка не принесёт) и отправились втроём к Мишиной маме.
Вилена Тимофеевна жила в Петроградском районе, в доме с чистой парадной, широкими лестничными пролётами в квартире из четырёх комнат, в одной из которых даже был камин. Приходу гостей она обрадовалась ужасно, свёрток с подарками от сына отложила, даже не взглянув, что в нём, и усадила всех пить чай, непременно с её булочками, она вот как знала, что они зайдут и булочки будут готовы буквально через пять минут.
В такой квартире (больше похожей на музей, если смотреть на неё детскими глазами) Егорка был впервые и ему было бы ужасно любопытно походить по комнатам и посмотреть повнимательнее. Наверняка же в этих бесконечных книжных полках от пола до потолка, загадочных шкафчиках, полочках с фарфоровыми статуэтками и в том вот массивном столе с зелёной лампой на нём, — столько всего интересного, что не пересмотришь за всю свою жизнь. От этого он ёрзал на стуле, невнимательно слушал взрослых и всё решал проблему — можно ли ему отправиться всё смотреть? А разрешения спросить стеснялся.
— Егорка, — наконец (как подумал, но не сказал вслух, за что себя потом похвалил Егорка) опомнилась Вилена Тимофеевна, — тебе, наверное, скучно с нами, да? Ты походи тут, посмотри, тут много всего интересного, не стесняйся — трогать и брать можно всё! Желательно, конечно, не бить и не рвать, но это ничего страшного, если случайно выйдет.
Егорка посмотрел на маму, та одобрительно кивнула и дальше, до их ухода, он не принимал участия в скучной взрослой беседе, а устроил себе настоящее приключение.
Мишина мама была очевидно рада гостям и скрывать этого даже не пыталась. Подробно расспросив, как там Миша, и посетовав на то, что никак она не доживёт, видимо, до того момента, когда он осчастливит её внуками и хоть какой-нибудь уже своей женой (да что вы, парировала она Машино робкое замечание, да какая там строгость с моей стороны, хоть бы уже и козу в дом привёл, я и то была бы рада, а уж если настоящую женщину!), искренне поздравляла Славу с Машей, что какие они молодцы и вот она прямо уверенна, что всё у них будет замечательно. И наказала непременно часто бывать у неё в гостях, вот пусть прямо Маша с Егоркой и сама заходит, пока эти оболтусы неизвестно чем там занимаются, вот прямо запросто берёт и заходит. Договорились, Маша? Нет, вот прямо запросто берите и заходите! Раньше у нас гостей знаете сколько тут бывало, пока Мишин папа был жив? О, тут такие вечера закатывали, что вы! Мишин папа был профессором, и известным в определённых кругах, но, только между нами, так и остался деревенским простачком, как и я, впрочем, и нам замечания даже делали, вы не поверите, но мы так любили, когда людей много в доме и помогать любили всем, и как счастливы от этого были! Боже, я как вспомню!
А потом как раз подоспели булочки, и они пили ароматный чай с сухофруктами (Мишин папа в Средней Азии одно время работал, так до сих пор оттуда шлют посылки и шлют) и маковыми булочками прямо из духовки. Спохватились, где Егорка и побежали его искать. А он, разложив на полу старинные карты, водил по ним деревянные кораблики и булочку принесли ему прямо сюда — прерывать своё занятие он отказался хоть ради булочек, хоть ради изюма и кураги.
— Ничего, ничего, я вам с собой дам! Ещё давайте по кружечке, а потом уже пойдёте, я понимаю, что вы торопитесь, ну чуть-чуть ещё, хорошо?
— А у вас один ребёнок? — спросила Маша.
Слава тихонько ткнул её ногой под столом, но не успел.
— Нет, Машенька, старший сын у нас ещё был, Константин, погиб в Афганистане, папа жив ещё был. Как он против был, чтоб Миша в военное училище шёл, вы бы знали! Только на морское и согласился, потому что точно на войну не попадёт. А потом оказалось, что Миша в подводники попал и, может, кто его знает, лучше бы на войну, но папа тогда уже умер и мне одной горевать пришлось. Смирилась как-то, что делать-то? Да, впрочем, давайте не будем об этом, праздник же, да. Мишеньке от меня сможете передать тут кое-что? Вот и славно.
Домой шли со свёртками сухофруктов и передачкой для Миши.
— А она милая у него, да?
— Что ты — золотая женщина вообще.
— Дорогушей меня называла, надо же, меня так последний раз называли… Да никогда не называли, а слово приятное. Хоть и старомодное, но уютное, видимо, смотря кто говорит. Мне понравилось. А у вас что там, опасно, скажи-ка мне, друг мой милый?
— Да прямо там! Нормально у нас, сердце материнское просто, ну ты же понимаешь?
— Не знаю, Слава, не знаю, но как-то тревожно мне стало. Это зря я, да, скажи?
— Ну конечно, Маша, мы же не на войне, в конце концов. Обычные задачи выполняем, всё осторожно и под контролем у нас. Я тебя уверяю, что тебе абсолютно не за что переживать!
— Смотри. Не обмани!
— Я? Миледи, да как возможно даже подумать такое в мою сторону?
Егорка опять засмеялся — никто кроме Славы, пусть и в шутку, не называл его маму такими титулами, хотя мама его, и он был в этом уверен, была такой замечательной, что заслуживала всех титулов, которые только бывают на белом свете. Интересно, подумал он, такой Новый год замечательный и вот, если бы Дед Мороз подарил ему ту игру, то, пожалуй, это был бы лучший Новый год в его жизни.
И жизнь-то у него вся была впереди, а сейчас только маленький отрезочек её он прошёл, но дети не смотрят в будущее и от именно этого, очевидно же, умеют быть счастливыми в настоящем.
***
Праздник прошёл хорошо и весело, но до обидного быстро.
Вернувшись от Мишиной мамы, они некоторое время кружились в предновогодней суете: заправляли салаты, нарезали колбасу, варили картошку, снимали жирную плёнку с холодца, красиво выкладывали на стол мандарины и конфеты. Уже в самом конце вспомнили про бутерброды с икрой. Петрович долго и торжественно разворачивал пергаментную бумагу, в которую завернул блюдо с ними, чтоб не заветрились.
— Могло быть и хуже! — констатировала Маша, глядя на ровные строи относительно ровных кусков булки.
— А кому не нравится, тот пусть не ест! — парировал Петрович. — Я уж как-нибудь заставлю себя перешагнуть чувством голода через чувство прекрасного!
— Как вы вообще можете её есть? Она же противная! Мама, а можно мне мандарин?
За стол сели сильно заранее. Петрович и Слава принесли телевизор на кухню и решили, что праздничного концерта вполне достаточно для начала праздника, тем более, что Егорка уже начинал поклёвывать носом и тереть глазки. От ёлки, небольшой, но нарядной и всё равно праздничной и телевизора на табуретке у окна, на кухне совсем закончилось место, и за столом сидели локоть к локтю, дружно, как сказал Слава, а перемены блюд расставили так, чтоб за ними не нужно было вставать, а достаточно было просто протянуть руку. И от этой дружной тесноты, от запахов ёлки и мандаринов, от того, что все смеются и даже Петрович не так много хмурится, Слава объявил, что вот такого вот Нового года у него никогда в жизни и не было и что теперь-то он понимает, отчего все так радуются этому празднику.
— Ты мандарин, что ли, не ел никогда или ёлок не нюхал?
— Петрович, ну он же детдомовский, ну я же тебе говорила!
— А что им, в детдомах мандарины не выдавали?
— Петрович!
— Нет, Маша, погоди, я его понял! Петрович, ты прав! Именно от того, что я встречаю праздник с вами, он для меня такой особенный! Я же вас люблю всех и даже тебя, старый ты пень!
— Престарелый, я попросил бы! До старого мне ещё лет пяток коптить, давайте уже наливать начнём, а? А то вон Егорка скоро все мандарины прикончит и новогодней закуски не останется. Славон, а что ты себе лимонад этот льёшь? Ну я и говорю, что лимонад, от того, что его шампанским назвали, он же достойным напитком не стал!
— Петрович, я без водки сегодня.
— Больной, что ли?
— Нет…
— А что тогда? Да что ты на Машку глазами показываешь? Она тебе не разрешает уже со старшим товарищем водки выпить? Вот, ты подумай, бабская натура — и замуж ещё не вышла, а уже командует!
— Да нет, Петрович, я не хочу. Завтра давай по чуть-чуть, а сегодня… ну мы не виделись давно… понимаешь?
— А-а-а, — Петрович подмигнул Маше, — дошло-о-о-о…
— Только попробуй вслух сказать, — Маша погрозила ему кулаком.
— При дитёнке-то? Ты, мать, чёрную несправедливость свою всю на меня не выливай-то! Оставь и для будущих поколений! Да что ты налил-то мне, Славон, — в глаза капать? Краёв не видишь?
Егорка уснул прямо за столом, Слава отнёс его в комнату, и они с Машей раздели его и уложили в кровать. Вскоре засобирался и Петрович, прихватив с собой недопитую бутылку и, ладно уж, оставив Славе и Маше телевизор, хотя они сказали, что он им категорически не нужен, но Петрович счёл это за неуместное стеснение и проявления интеллигентности в неподходящей обстановке. Переубеждать не стали.
Первым делом, оставшись вдвоём, уложили под ёлкой подарки Егорке и Петровичу (Слава привёз ему две тельняшки — летнюю простую и зимнюю с начёсом). Потом убирались и освобождали проход к ёлке. Немного попрепиравшись, кому первому уходить в ванную, решили, так уж и быть, положить подарки друг другу одновременно и взяли друг с друга слово, что до утра смотреть не станут. А потом захотелось выпить чаю. Даже не чаю, чай был просто поводом, хотелось им позже лечь спать и встречу их, такую короткую, растянуть на подольше – наедине так и не были же за весь день ни разу.
Оказалось, что Слава уже всё распланировал и даже договорился там, у себя на службе, что ему начнут подыскивать квартиру в ближайшее время потому, что вот они сходят в автономку, потом у них отпуск почти до августа и он уже приедет с семьёй и куда их ему селить, правильно? Все согласились и пообещали к августу квартиру добыть, так что всё уже почти готово. Маша слушала и удивлялась тому, что она-то об этом ещё и подумать толком не успела вот таких вот деталей, ну и ладно, и хорошо даже, на то он и мужчина — так же? Она слушала и слушала, иногда вставляла какие-то реплики невпопад, а сама всё смотрела на его губы и думала, ну когда же он её уже поцелует, смотрела на его руки и ждала, когда же он её уже обнимет… А потом… ну будет же что-то потом, куда оно денется? В итоге не выдержала и села Славе на колени, а Слава, оказалось, тоже долго уже ждал, но опять не мог решиться — сказалась разлука.
— Слушай, а как это отпуск у тебя по август? — вспомнила она уже потом, лёжа в средней комнате и далеко за полночь и говорить можно было не стесняясь. Судя по храпу из-за стены, сегодня Петровича они не разбудили, хотя шума наделали больше и даже подломили ножку у стола, но ничего страшного, смеясь, шептал ей Слава, я завтра починю, да конечно, ничего страшного, думала она, целуя его, да пусть хоть пол рухнет и окажутся они у соседей.
— Ну примерно по август, я точно не знаю ещё.
— Ты же говорил, что весной приедешь в отпуск?
— Весной и приеду.
— А что это за отпуска у вас такие?
— Обычные отпуска — месяц в санатории и два потом сам отпуск, но с санатория можно соскочить, так что три месяца и выходит.
— Три месяца?
— Ну да.
— Ничего себе, обычные отпуска! Да вы там вообще, как я погляжу, на шее у трудового народа неплохо устроились — икру вон с шоколадом трескаете, да по три месяца в отпуска ходите!
— Спрашиваешь! И это ты ещё наших продовольственных пайков не видела!
— Ну хорошо, а за что такие барские поблажки?
— Слушай, ну много за что. Лодка подводная, атомная. Север, опять же. Полярная ночь, полярный день, да хватает всякого. Зимой, знаешь, как холодно бывает, что ты! Медведи белые в подъезды заходят лапы на радиаторах погреть, а как ветра задуют, так женщины и дети вообще из домов не выходят!
— Ну так и мы же не на юге живём!
— Ну уж и не на Севере.
— А где?
— На северо-западе же.
— А вы вот прямо на самом Севере?
— Северо-северо-западе. Так точнее. Норд, норд и немного вест, если по-морскому.
— То есть, просто у вас на одно слово «север» в названии больше?
— Ещё полярный круг, не забывай!
— Про медведей соврал-то, да?
— Нет, как можно! Просто чуть-чуть приукрасил. Страшно тебе уже туда ехать? Передумала уже, сознавайся?
— Нет, Вячеслав, не стоит даже раздувать в себе слабый огонёк этой надежды. Мне с тобой не страшно — вези, куда хочешь, раз уж так вот вышло. Я по-прежнему согласна!
— Поцелуешь меня?
— Опять? Вячеслав, пожалейте бедную девушку! У неё утром ребёнок проснётся.
— Ну ещё разик, а ребёнка я возьму на себя, пока бедная девушка будет отсыпаться!
Когда Слава уже крепко спал (сопит, как ребёнок, подумала Маша), она стояла у окна и смотрела в свой маленький узенький дворик. Она любила смотреть на него новогодними ночами — заваленный снегом и расцвеченный огнями гирлянд из окон и просто жёлтыми прямоугольниками света, он никогда в другое время не выглядел таким сказочным. Смотришь на него, и кажется, что вот-вот во двор войдёт трубочист в чёрном цилиндре и с мотком на плече, будет непременно курить и обязательно трубку. Или вбежит дама в вечернем наряде: пышных юбках, собольем пальто и в шляпке, подвязанной лентами — она будет спешить домой с какого-нибудь бала и быстро забежит в парадную, даже не обратив внимания на восхищённого ей трубочиста. Хотя вряд ли дамы света жили в таких домах, но это же сказка, так почему бы и не помечтать, что, может быть, именно она и была бы той дамой. Хотя жизнь на сказку похожа мало, даже на страшную. Нет в жизни той лёгкости, с которой даже самые ужасные вещи случаются в сказках.
***
Утром они, естественно, проспали, и Егорка вскочил первым. Даже не заметив, что мамы нет рядом, а, может, и заметив, да не придав этому значения, не одевшись и не умывшись, он побежал к ёлке.
— Ура-а-а-а!!! — именно этот его громкий крик из кухни их и разбудил.
— Блин, Слава, — зашептала Маша, — что делать-то будем?
— Не паниковать, — прошептал в ответ Слава, — будем действовать по обстановке!
— Дядя Петя, дядя Петя, — кричал Егорка в соседней комнате, — смотри, что мне Дед Мороз подарил! Там и тебе он что-то принёс, я видел!
— Егорий, — строго и нарочито громко пробасил Петрович, — а стучаться тебя не учили к посторонним людям?
— Учили, но ты же не посторонний, да и сам говорил, чтоб я, как к себе, сюда ходил!
Петрович громко закашлял — артист из него был аховый, следует заметить.
Маша осторожно выглянула — Егорка стоял в дверях комнаты Петровича и проскочить незаметно не удалось бы.
— Ты это, Егорка, заходи, сейчас же мультики крутят, наверняка, садись вот— смотри и машину свою води.
— А где моя мама? Ты маму мою не видел?
— Ну где, ну в туалет пошла или умываться, дай ты человеку в туалет хоть спокойно сходить.
Маша показала Славе два выставленных вверх больших пальца и шмыгнула в ванную.
— Ну нет, — не сдавался Егорка, — я маму найду сначала!
— Мама, — стучал он через пару секунд в ванную, — ты там?
— Да, Егорка, тут!
— А что ты там делаешь?
— Егорка, ну что делают люди в туалете?
— Писаешь?
— Егорка, неприлично так говорить!
— А почему? Тут же свои все!
— Привет, малыш, — Маша вышла, присела на колено и крепко обняла сына.
— Доброе утро, мама! А угадай, что мне Дед Мороз принёс!
— Даже и не знаю, сынок, что же?
— Сейчас, ну выпусти меня уже, я у дяди Пети в ком-нате оставил… О, доброе утро, Слава! Ты тоже уже выспался?
— Здесь никто не выспался, кроме тебя, — буркнул Петрович, вынося игрушку из комнаты.
— Смотри, Слава! Смотри, мама!
— Ух ты! — удивились они. — Вот это повезло тебе!
— Маша, а ты поспи ещё ляг, если хочешь. Мы тут с Егоркой разберёмся, да, Егорка?
— Как всё-таки хорошо мне, что я могу и без разрешения лечь поспать! — и Петрович двинулся было обратно к себе.
— Погоди, а мультики! Ты же сам говорил! — и Егорка, отодвинув Петровича, потащил игру в его комнату.
— Вот оно как, значит, за всех тут Петровичу страдать, да?
— Петрович, да что за жизнь без страданий? — Слава приобнял Петровича. — Пошли кофе варить!
— Без страданий нормальная жизнь, Славон, такая обычная, знаешь, нормальная жизнь, слыхал про такую?
— Люди говорили, да, что бывает и такая!
— На меня тоже варите, я умоюсь сейчас и приду…
— Погодь-ка, дай старику сначала коня своего привязать, а то опять в раковину на кухне придётся!
— Петрович, фу!
Все по очереди умылись и, пока пили кофе, сварили кашу Егорке, отнесли есть прямо в комнату к Петровичу. Обычно Маша есть в комнате не разрешала, но праздник же и мультики, опять же, не каждый день показывают. Уже после сообразили, что забыли про свои подарки.
— Ну давай, Петрович, — ты первый! — Чего это?
— Старикам и детям преференции!
Петрович долго возился с бечёвкой, на своём свёртке, в итоге плюнул и разрезал её ножом, развернул тельняшки:
— Офигеть! Славон, ну ты угодил старику, а! Ну ты посмотри, шельмец какой, — раз и в дамки сразу прошёл! Теперь-то и я за тебя замуж готов!
— Ну уж нет! — засмеялась Маша. — Я первая в очереди на замуж за Славу!
— А как же насчёт преференций старикам, что вы давеча упоминали?
И всем было весело и хорошо, и это утро первого января вспоминали долго потом, когда уже жизни их переменились так, что предположить они вот тогда не могли. Но жизнь не больно-то и спрашивает, когда ей меняться и в какую сторону. Рассыпает обстоятельства, подсовывает случаи и, когда надо, придерживает время, а когда надо — пускает его вскачь, организует встречи и разлуки, случайности подмешивает. А вот спрашивать — забывает.
***
До ухода в автономку Слава успел прислать четыре письма и одну посылку. Маша успела ответить только на два. Её, что удивительно, но даже немного начала раздражать необходимость писать, хотелось уже просто ждать Славу дома и готовить ему обед. В последнем Слава писал, что отвечать уже не имеет смысла, он всё равно получить его не успеет и оно вернётся назад.
Первый месяц (февраль) было тоскливо, впрочем, так же, как и на улице и, если бы не Егорка, то Маша вовсе потерялась бы в своих мыслях и том мире, который неожиданно переменился вокруг и стал каким-то тревожным и совсем неласковым, но её. Второй (не принёс весну, как ни надеялись, а, наоборот, заснежил) прошёл быстрее, видимо, сказалась привычка, и в конце его Маша уже могла смеяться (или хотя бы притворяться, что смеётся) и соглашалась хоть иногда бывать в компаниях. Соглашалась, в основном из-за сына — не сидеть же ему всё время дома? Третий оказался самым плохим: Маша считала дни до его конца и не образно, а фактически, не выпуская из рук или с глаз календарей. Сам апрель выдался неласковым: снег то сходил, то возвращался, не успев сойти до конца, и под свежими сугробами жили ледяные корки, а под ними стояла вода, и ноги, как ни старайся, всё время мокли. Задули ветра, совсем февральские, будто не нарезвились тут в феврале и решили заглянуть ещё разок. Маша даже решилась съездить с Егоркой к Мишиной маме, и оказалось, что вместе ждать несколько легче и зря они не сделали этого сразу, с самого начала. Вилена Тимофеевна была внимательна к Маше, радовалась Егорке и корила их за то, что так долго собирались. Они стали бывать у неё чаще — Егорке нравилось обилие интересных вещей, а Маше спокойствие, уверенность и приветливость Мишиной мамы. Они вместе лепили пельмени, стряпали всякую сдобу (Маша заодно и научилась) и много делились друг с другом своими чувствами, переживаниями и ожиданиями от подступающего будущего.
А потом начался четвёртый, май. И уже все ждали лета, но только началась весна и опять голые чёрные деревья и опять холодно и дует, но снега уже не осталось, а грязь после зимы дворники вымести всю не успели. Маша знала, когда он начался, этот май, едва не до минуты, и оказалось, что третий был ещё так себе — не самым плохим. Первые два-три дня даже было весело, на душе отлегло, хотя формальных поводов не было, но сказано же было — три месяца, значит три месяца. А с пятого дня Маша начала волноваться и чувствовать смутную, но настойчивую тревогу, хотя Вилена Тимофеевна её успокаивала и довольно логично объясняла, что даже и скорые поезда опаздывают, а тут подводная лодка! Мало ли там что — задержали или ещё что. И бывало такое не раз, это Маша ждёт первый раз, а она вот пятую автономку уже переживает и ничего вот, привыкла уже. А если что-то случилось бы, то непременно уже сообщили бы об этом (а вы уверены? абсолютно уверена!), уж матерям-то точно. На следующие пару дней Машу ещё хватило, а потом у неё порвались колготки и всё — нервы кончились. Ну вот почему так, когда человек и так весь на нервах и ходит, работает и спит, нося внутри сильно закрученную пружину, у него рвутся прямо посреди рабочего дня эти чёртовы колготки?! И не то, что стрелка поползла, а прямо от бедра и в ботинок.
Успокаивали Машу всем отделом, и даже начальник сам сбегал в медпункт и принёс стакан с накапанным в него корвалолом и долго выяснял, что случилось, кто виноват и кого он должен немедленно покарать, для восстановления вселенской справедливости. Маша говорить не могла — плакать сначала было неудобно, но потом, когда полилось ручьями, стало уже всё равно и как-то легче, что ли. Сотрудницы объяснили начальнику, что Машин жених, офицер-подводник, должен был вернуться из плавания (или как там у них, Маша, они же не плавают, вроде как? Ходьбы?) уже неделю назад, а вот нет, как нет и ни весточки, ни слуху, ни духу. Ни привета, соответственно, ни ответа. Начальник посетовал на то, что при таком богатом выборе вокруг молодых людей порядочных, спокойных и домашних профессий, красивые девушки выбирают себе зачем-то этих непонятных бесшабашных моряков — ни кола, ни двора которые, и какие там у них перспективы? А ещё и гибнут, как мухи и поди ищи его в том солёном море, куда там венок положить… Ну чем вот, Маша, тебе начальник отдела кадров не подошёл, ведь имел на тебя виды, я знаю или вот специалист по гражданской обороне — крайне положительный человек…
Начальника вытолкали из бухгалтерии взашей, Маше сбегали ещё за корвалолом и, когда она немного успокоилась, велели идти домой, но колготки, конечно, надо бы снять — в таких по городу ходить совсем неприлично. Маша не понимала, что ей делать дома, но и сидеть на работе не могла. Поэтому ушла, чтоб просто идти куда-то, не сидеть на месте. Пришла, естественно, в детский сад и, забрав Егорку прямо с тихого часа, решила ехать к Вилене Тимофеевне. Ну и плевать, даже если и надоела ей, но кто сейчас может её лучше понять?
Если даже и надоела (Вилена Тимофеевна категори-чески это отвергла и даже сказала, что в былые времена могла бы обидеться на Машу за такое предположение), то всё равно Мишина мама этого не покажет и, может, станет легче. Домой сейчас точно ехать нельзя — там в ванной стоит Славина зубная щётка, в шкафу висит один из его галстуков, из починенного им крана течёт вода, а в среднюю комнату хоть и не входи — там и кровать, и стол, и стул, и подоконник… там столько сладких воспоминаний, что хоть бери их ложкой и добавляй в чай вместо мёда или совсем бери и растекайся от безнадёги прямо на её пороге. Петрович, надо отдать ему должное, ведёт себя прилично и, если в первые месяцы подзуживал её, то сейчас ходит молча, проявляет заботу и чуть не ухаживает. Но это не то, что ей сейчас нужно. Совсем не то.
Вилена Тимофеевна усадила Машу в столовой, налила им с Егоркой куриного супа, — нет, никаких возражений, обоим есть и нечего тут. А потом, когда Егорка убежал в комнаты играть, достала из буфета коньяк и разлила по бокалам. Ой, Маша, можно подумать, я тут прямо его люблю, но надо, надо — давай, потихоньку, вот тебе шоколад и пастила (из Узбекистана прислали), настоящая, закусывай. Ну, будем! Ты, думаешь, Маша, я бесчувственная такая, ты вот плачешь, мечешься, и места себе найти не можешь, а я тут супы варю, да коньяки распиваю? Нет, ну не думаешь, конечно, ты сейчас, понятно, вообще думать не можешь, но, если бы могла, то так и думала бы. Да? Ну подумай. Ну вот, видишь. А знаешь почему, Маша? А потому, что ко всему привыкаешь — и ждать привыкаешь, и горевать, и виду не показывать. Вот сын мой Миша и жених твой Слава — представь, в каком они сейчас положении? Мы вот по землице ходим, воздух у нас, люди вокруг и запах весны. А им там каково, представь? А они ведь тоже скучают, ну Мишка мой, не знаю, так-то, как ты точно не убивается, а вот Славу своего представь? А его кто пожалеет? А ещё ему сидеть и сопли вытирать некогда — он же на подводной лодке, Маша, он же за себя и за других людей в ответе. Тут нюни сильно не распустишь. А что, мы с тобой, чем хуже? Наоборот, Маша, мы — лучше, мы сильнее должны быть и показывать им, что сильнее, чтоб спокойнее им было. Давай ещё подолью, слушай, я же в свекрови твои не собираюсь, чего меня стесняться, да и свекровь свою будущую не стесняйся — тоже мне шишка нашлась, свекровь! Как мышь под веником пусть у тебя сидит за то, что ты о сыне её заботиться будешь, а ты будешь, я же вижу. Да знаю я, что Слава сирота, так, рассуждаю, ты на старуху пьяную не смотри. Пей давай. И ночевать у меня оставайтесь, нечего вам переться по слякоти этой, — вон хоромы какие, оставайтесь и всё тут!
А за окнами правда зарядил дождь, почти ливень, и чёрный вечер и пузырящиеся водой дороги не звали к себе совсем: Маша с Егоркой остались, чему Егорка очень обрадовался и спросил, а можно ли, тогда уж, раз такой праздник, растопить камин и посмотреть на огонь.
— Да, — задумчиво ответила Вилена Тимофеевна, — а ведь он когда-то работал…
— Егорка, — вступилась Маша, — может это неудобно, так наглеть в гостях!
— Ничего-ничего! Как говорит мой Миша, неудобно спать на потолке, а наглеть в гостях — это вполне естественно! Ну не в пустыне же мы, в конце концов! Вызовем пожарных, если что пойдёт не так!
Дрова (не много, но достаточно для эстетических целей) нашлись в кладовке, для чего пришлось выпотрошить её всю, до дна и, пока Вилена Тимофеевна вспоминала, как там и что работает в этом камине, Егорка старательно помогал маме складывать вещи обратно. Сначала что-то пошло не так и комната начала наполняться сизым дымом, и Мишина мама сообразила, что надо же было сначала газету поджечь и тягу проверить, но чего уж теперь. Егорку выгнали в самую дальнюю комнату (чтоб не затоптали пожарные), открыли там ему форточку и усадили рассматривать картинки в справочнике по ядерной физике реакторов (эта комната была Мишиной). Но потом то ли от того, что дымоход прочистился, то ли от манипуляций с задвижками, всё заработало как надо — огонь весело трещал в топке, а дым со свистом улетал в трубу. Женщины подтащили к камину два огромных кресла, вызволили Егорку из плена ядерной физики и, наварив какао, уселись у камина.
— Нет, это не дело! — сразу же встрепенулась Вилена Тимофеевна, — вас надо переодеть по-домашнему!
И убежала искать подходящие вещи. Пока переодевались, — Маша в старый, но почти новый («Я пополнела после первых родов и почти не носила его») халат Мишиной мамы, а Егорка в тельняшку Миши, — пока смеялись друг над другом и рассаживались обратно (Маша и Вилена Тимофеевна на кресла, а Егорка на толстую шкуру «наверное медведя» у камина), какао совсем остыл, но дела до этого не было никому: в тёмной квартире так уютно плясали отсветы языков пламени и так успокаивающе трещали дрова, что было и так хорошо. Долго сидели молча и думали каждый о своём, только Егорка, периодически прерывал молчание вопросами: «Мама, а почему дрова трещат?»; «Мама, а почему дым уходит вверх?»; «Мама, а в камине можно готовить еду?»; «Мама, а раньше так и готовили еду?»; «Правда? А торты они как жарили?» и только когда дрова уже почти догорели и стал слышен дождь за окном, Вилена Тимофеевна наклонилась к Маше и тихонько сказала:
— Видишь, Маша, и с этим можно жить. И с этим можно смеяться. Не отчаивайся — всё как-то разрешается, и это тоже разрешится. Жизнь-то продолжается, будь она неладна!
***
В автономку уходили в полной темноте. Сильно морозило, и вода дымила густым белым паром. Командир висел на мостике и следил за клубами этого пара, лизавшими борт, — узкость проходил старпом. Белое, густое облако, укрывшее воду, жило своей жизнью, и лодка, как виделось командиру, была в этом симбиозе воды и тумана лишним, инородным организмом, суть которого сводилась к одному — нарушать равновесие. А люди так и вообще были здесь инопланетянами. Вот интересно, думал командир, если опустить руку в этот туман, утянет там тебя вниз кто или нет? Или просто руку откусит? Но вслух сказал:
— А лисички взяли спички, к морю синему пошли…
— Что, тащ командир? — старпом проходил узкость самостоятельно в первый раз и несколько волновался.
— Хорошо идёшь, говорю! — командир пускать в свои мечты не хотел никого, в мечтах ему уютнее было одному. — Давай, главное, не волнуйся!
Не волновался почти никто. Наоборот, даже были рады, что береговая суета на время отступила и теперь можно было просто… нет, не отдыхать, но делать то, что тебе нравится, к чему ты привык и от чего устаёшь много меньше, чем от бесконечных проверок, быта и всего остального, что обычные люди называют жизнью. Жизнь экипажа не вошла ещё в привычное и ожидаемое русло долгого похода, и те, кто шёл впервые, ещё куда-то пытались бежать, что-то делать и не могли сидеть на месте от ожидания чего-то такого, чего ни у кого больше не бывает и этим потом можно будет гордиться и рассказывать детям и внукам. А Слава грустил.
Автономка, особенно если она не первая, протекает всегда одинаково (за исключением незначительных нюансов) и времени погрустить предоставляет с избытком. Сутки твои расписаны фактически по минутам, но в голову к тебе всё равно никто не заглядывает и грусти себе на здоровье, когда хочешь: хочешь на обеде, хочешь на вахте. Или вместо сна. А если сильно хочешь, то во время занятий и уходом за матчастью тоже не возбраняется. И Слава грустил, хотя ему было легче, чем Маше. И вовсе не оттого, что был он мужчиной, а потому что обстановка вокруг него не менялась никак вообще: одни и те же люди, одни и те же слова, одна и та же погода, одни и те же маршруты, одни и те же действия. Только давление и меняется. И то: от сих до сих и примерно в одно и то же время суток. То есть ждать тебе абсолютно нечего и никакой случай не нарисует тебе Машу вот за тем вот углом или вот в этом вот месте. Чуда Славе было ждать неоткуда. Болели бы зубы, так и то было бы веселей. Да хоть бы уж и авария какая — всё было бы живее, но ничего необычного не случилось, за исключением пары банальных пожаров. Но пожары Слава видел и участвовал в их ликвидации не раз, и теперь, с улыбкой уже вспоминал свой первый, когда он лейтенантом, зная свои действия наизусть, растерялся от того, как всё быстро заволокло дымом, и стоял, хлопал глазами, пока не получил оплеуху от начхима «Включись в ПДА, шляпа!» и потом, от оплеухи этой ожил, очнулся и отработал всё без сучка и задоринки. А начхим потом извинялся: ну ты, мол, это, зла не держи, сам понимаешь, на каждого доброго слова не напасёшься, а оплеух — пожалуйста, бездонная бочка.
К концу третьего месяца Слава перестал спать, что тоже, в общем, не удивительно. И совсем раскис от мечтаний о скорой встрече и будущей, непременно счастливой, долгой и полной приятностей жизни. Но на раскисшего Славу внимания никто не обращал — мало кто не раскисает сидя девяносто суток в железной бочке под водой. Виду-то не показывают, бодрятся, но — раскисают. Когда задержали возвращение в базу, вот тогда и стало уже почти что невмоготу. Тут же был составлен план: вот тогда приходим, вот срываюсь и лечу (Миша опять тянет вахту за себя и за друга, но Миша даже за услугу это не считал: надо, значит надо), вот он Ленинград, а вот они — поцелуи, тут же лечу назад, но уже легче, потому что до отпуска будет рукой подать, а потом и вот она, — мечта и прямо в руках. На сколько задержали — никто не знал. Подумали где-то в верхах: раз лодка всё равно чухает домой через полигоны боевой подготовки, то отчего бы ей заодно не пообеспечивать задач какому-нибудь крейсеру или эсминцу — ну девяносто дней в море, ну девяносто пять, ну не умрут же они там, правильно? А тут вон как ловко всё выйдет по планам, а ловкий план, это как козырный туз — бьёт любую карту в колоде. Правда, в колодах тех бывают и джокеры, но авося с небосем никто не отменял — не было таких директив в военно-морском флоте, да и по сей день нет. И в этот раз они сработали: проболтавшись лишнюю неделю, лодка вернулась в базу
и Слава тут же умчался в аэропорт.
— Миша, слушай, выручи, брат, тут дело такое…
— Слава, да лети уже, к чему слова, взгляды вот эти мокрые и вздохи, друг я тебе или труба на бане? Не надо объяснений, — не порти ими наших высоких отношений!
Миша был хорошим другом. Хотя «хороший друг» — это оксюморон, но больших эмоций на Мишу Слава выделить не мог, не сейчас, — чувства и мысли его быстрее самолёта летели в Ленинград.
***
После визита к Вилене Тимофеевне, Маше несколько полегчало и тоска её, острая и яркая, перешла в хроническую стадию, когда рук ещё высоко не поднять, но и истерики уже не случаются. Идя в детский сад за Егор-кой, она даже почти радовалась тому, что погода явно налаживается, и бывает солнышко, и почки на деревьях, до того просто набухшие, дружно распускаются, и пахнет в воздухе свежей листвой и теплом, которого ещё нет по-настоящему, но вот запах уже есть.
— Угадай кто, — закрывая ей глаза ладонями, Слава говорил неестественно высоко, но Маша его узнала сразу же, даже до того, как успела испугаться, что кто-то хватает её сзади.
— Агния Барто! — и Маша ткнула Славу локтем, от чего тот даже ойкнул, не ожидая такой реакции.
Маша обернулась и строго спросила:
— Почему не дал телеграмму?
— Мы вчера пришли только, Маша! Что меня, что телеграмму получила бы ты только сегодня, так я подумал, что лучше уж меня!
— Подумал он…
Больше на строгости или ещё что Машу не хватило: она крепко обняла Славу, повиснув у него на шее, и зашептала: «Ну дурак же, ну какой дурак!». А потом они целовались и над ними смеялись дети, которые гуляли во дворе детского сада и дразнили их «тили-тили тестом, женихом и невестой». И они так вот стояли бы неизвестно сколько, если бы Егорка не прибежал к забору и не спросил, собираются ли они забирать своего ребёнка, или бросят тут умирать от старости, а себе заведут нового.
Домой Егорка ехал у Славы на шее, а Маша шла под руку, крепко прижавшись, и думалось ей, что счастливее, чем сейчас, быть уже нельзя и, возможно, и стоило пострадать эти несколько месяцев, которые казались ей теперь не такими уж и долгими и невыносимыми, чтоб вот сейчас идти вот так вот рядом и непонятно отчего не растаять совсем в радужную лужицу покоя и умиротворённости.
Дома встречал Петрович (которому Слава заранее занёс вещи) в новой тельняшке, которую он не надевал с самого Нового года, а берёг для особого случая.
— Вещи разложены, командир, — доложил он, — ужин на плите, осталось только разогреть!
— Вольно! Благодарю за службу! — рассмеялся Слава, а за ним и Егорка.
И тут измученные нервы окончательно расслабились и оставили Машу в покое, от чего она погрузилась в какой-то туман и смотрела на всё, что происходит как со стороны, вроде как и не принимая участия. Вернее, участие принимая, но никак совсем не реагируя. Как в тумане они что-то делали, чем-то ужинали и как-то играли с Егоркой, как в тумане потом, когда Егорка уже спал, целовались на кухне и оба, не сговариваясь, хотели оттянуть тот момент, когда окажутся в постели, обоим хотелось подольше понежиться в предвкушении и насладиться ожиданием, хотя пальцы и так уже дрожали и дышать было тяжело и казалось бы, — ну чего тут ещё ждать?
— Как это ты завтра улетаешь? — первый раз вынырнула из своего тумана Маша уже сильно под утро.
— Я же не в отпуске ещё, Маша, нам надо в море сходить денька на три, покатать нового командующего, по-том лодку сдать и потом уже — отпуск. Но это не долго уже, скоро совсем.
— Ты когда-нибудь будешь моим?
— Я и так твой.
— Нет, так, чтобы совсем. Чтоб не ждать вовсе, не переживать и точно знать, что ты сегодня придёшь домой и мы будем, не знаю, спорить кому мыть посуду и я смогу отругать тебя за то, что ты не вынес мусор, а не трястись тут, как осиновый лист, от страха, что никогда тебя больше не увижу?
— Когда-нибудь, Маша, когда-нибудь. Я же не всю жизнь на флоте служить буду — старость же у нас впереди, не забывай! Тогда-то, эх, развернёшься!
— Чёрт бы побрал этот твой флот! Отчего ты не пошёл в бухгалтеры?
— От скуки чтоб не умереть, Маша. И оттого ещё, что не все юноши, когда растут, мечтают стать бухгалтерами, а вот о море почти все мечтают. Но только самые смелые, такие, как я, не боятся за мечтами своими идти.
— Каков смельчак, вы посмотрите! — на Машу накатывала грусть, но виду она показывать не хотела и старательно её отгоняла.
— Маша. Ты бы видела, сколько я тогда на параде, когда мы познакомились, топтался вокруг вас! Я даже уходил один раз, — всё никак не мог решиться заговорить, а потом пробивался к вам обратно сквозь толпу и паниковал, что потерял окончательно. Вся спина мокрая была, все заготовки в голове перебирал, ну, знаешь, как обычно, когда мужчины знакомятся. Миша же у нас специалист, вот уж кто на дам, как на амбразуру, он-то, на моём месте ни страха, ни сомнений не испытывал бы!
— Ловелас он у вас?
— Слушай, да нет. Просто женщин любит и ищет свою, да вот найти никак не может.
— А ты?
— А что я?
— Долго искал?
— Всю жизнь, так получается! А какая теперь разница? В общем, главное же, что нашёл!
— А ты в этом уверен, Слава?
— Что начинается сейчас?
— Сомнения, Слава. Я же женщина, и не одна, мне свойственно сомневаться.
— Уверен, Маша. А ты?
— Я-то давно да.
— Ну и хорошо же?
— Лучше не бывает, — вздохнула Маша и уткнулась носом в Славину шею, вдыхая его тепло и наслаждаясь последними минутами этой встречи. На миг ей пришло в голову, что вот сейчас ей нужно непременно запомнить его запах. И если потом она сможет воспроизводить в своей памяти, то всё у них будет хорошо.
В ту ночь они так и не уснули: было так хорошо, что просто проспать это время казалось преступлением, за которым потом последует и наказание, а зачем оно им? Наказание бывает и без преступления, но кто об этом думает то того, как оно случается? Под утро Маша перешла к Егорке (ну когда-то же он должен понять, что мы спим вместе, но сейчас не рановато ли?), а Слава сел у них в комнате под лампой с зелёным колпаком тихонько почитать книгу.
Потом утро и тот кусочек дня, который был отведён Славе, промелькнули, как один вдох. Вот Маша лежит рядом в Егоркой и делает вид, что спит, смотрит на Славу и думает: сделать ли ему замечание, что он сутулится, когда сидит, или пусть он думает, что она спит и расслабится? А вот они все провожают его в прихожей (Слава был категорически против того, чтоб они ехали в аэропорт) и Слава всё не может уйти, а Маша всё не может отпустить его, а Петрович с Егоркой смеются над ними, что они как дети и каждый из них для другого как любимая игрушка, с которой невозможно расстаться. Ска-зал это Петрович, и ему смешно, что он давно уже это всё пережил и знает, что кончается всё, и это тоже кончится, — исключений не бывает, а они, глупые, думают, что вот именно для них и сделают исключения те силы, которые вращают Вселенную. А Егорке смешно оттого, что он представляет то свою маму, то Славу, которого не понятно пора ли уже называть папой, в виде игрушек.
Проводив Славу, Маша сначала немножечко поплакала, а потом они с Егоркой съездили к Вилене Тимофеевне рассказать, что всё в порядке, они вернулись и все живы-здоровы, а телеграмму Миша не шлёт потому, что отпустил слетать в Ленинград Славу и опять несёт вахту за себя и за друга. Сейчас они ещё раз сходят в море, совсем ненадолго, и потом сразу приедут в отпуск: от санатория оба как-то там отвертелись.
— Не знаю, как твой, а мой явно опять наплёл, что мама у него больная и надо срочно к ней лететь. А как прилетит, так опять маму ту видеть будет только урывками, бегая за всеми подряд ленинградскими юбками. А я тебе говорила, что всё будет хорошо? — вслух сказала Мишина мама, но было видно, что и у неё отлегло. Егорке, может и нет, а Маша точно заметила это облегчение, которое сама испытала — вот буквально вчера.
***
Уже и в те края заглянула весна. Пока ещё не пришла, но один свой глаз уже выставила: солнце, до того не показывавшееся из-за горизонта, висело теперь в небе почти круглые сутки и, не сняв ещё зимней одежды, люди уже надели солнцезащитные очки — отражаясь от белого снега, уже начавшего покрываться корочкой льда, солнце слепило нещадно. Сугробы медленно и не-охотно начинали таять, становиться приземистыми и не такими пышными, и на вершинах сопок кое-где уже торчали на свободе острые каменные пики и мрачно-зелёные проплешины земли.
На выход в море передавали очень неблагоприятный прогноз погоды. Но для чего военные моряки вообще и подводники в частности принимают те прогнозы — абсолютно не понятно. Будто, знаете, объявили дождь и крейсер в море не вышел, смешно же? Корабли у нас делают крепкие, а уж людей-то и подавно: никакому ветру и не снилось.
Вернуться из моря планировали до девятого мая — нового командующего покатать было нужно, но не до такой же степени, чтоб пропускать праздник, причём, что морякам, что самому командующему. Командир был явно недоволен этим неожиданно образовавшимся выходом в море и даже пробовал протестовать, но его успокоили. Мол, чего там, выйдете на пару-тройку деньков, макнётесь и обратно в базу — новый командующий за медалью и с гордым званием уже настоящего подводника, а вы — в отпуск. Вы же только из автономки, поймите, у вас всё отработано. И матчасть проверена, и люди обучены. Ну кому нам ещё доверить нашего нового адмирала? Так что, если хотите, то мы сделаем вид, что вас спрашиваем и трепетно ожидаем вашего согласия. А так-то всё решено и выход завтра в семнадцать ноль-ноль по большой воде. Вот вам новая посуда, кстати, адмирал-то не местный, а с другого флота, не ударять же в грязь лицом, правильно? Вернёте потом, как придёте, тут всё под счёт.
Энергетические установки не выводили из действия. Дав сбегать людям домой по очереди (без ведома командования, естественно), отчалили за командующим и обратно в пучину.
Слава едва успел вернуться на корабль.
— Ну как слетал?
Миша и Слава курили на корме под рубкой — только отдали швартовые и база медленно, но верно удалялась.
За кормой, по тёмной воде, тянулся белый пенный бурун от винта и таял не сразу, а метров чуть ли не через сто — торопились выйти.
— Ой, Миша и не спрашивай! Без самолёта бы долетел, так тянуло!
— Я тебя понимаю, такая она у тебя… горячая штучка.
— Миша, я не за этим, прекрати пошлить.
— Понятно, что не только за этим. Скажи ещё, что этого и не было. Тебе хорошо рассуждать тут о высоком, а у меня, знаешь, яйца звенят, как чугунные шары. Даже ты мне сейчас кажешься довольно симпатичным.
— Жалеешь, что отпустил меня?
— Да ну тебя. У тебя же любовь, а я так, присунул бы кому-нибудь в посёлке. Любовь тут бьёт однозначно всех моих буфетчиц и продавщиц в военторге. Рад за тебя, друг, вот веришь — прямо рад!
— Эх, Миша, как всё-таки жизнь хороша, да?
— Да? Я вот тоже так думаю каждый раз, когда свою очередную мечту встречаю. А потом грустно так и пусто. Но наверняка ты прав и, пожалуй, поверю-ка я тебе на слово. Ладно, пошли, что-то старпом на нас грозно смотрит.
Первый день было ещё ничего, а во второй море разгулялось не на шутку — штормило так, что укачивало даже на шестидесяти метрах. И ещё хлопал ка-кой-то лючок на корме. Командующий послонялся по рубкам, наотдавал ценных указаний штурманам, связистам и акустикам (попытался и механику, но у того был последний выход в море и подписанный приказ на увольнение в запас лежал в штабе дивизии, и механик, немного потерпев, спросил: а можно я не буду вас на хуй посылать при людях, а то же вам с ними служить ещё — на этом всё и закончилось) и потом уже, когда посчитал, что научил, наконец, всех правильно нести службу, прицепился к этому лючку.
— Командир, почему у вас посторонние шумы? Вы демаскируете лодку, вы понимаете?
— Так точно. Лючок на корме оторвало какой-то при погружении.
— Лючок? Серьёзно? А если — война? А? А если бы вражеские силы тут рыскали повсюду, а вы как кухарка крышкой по кастрюле гремите!
— Ну не рыскают же. А если бы рыскали, то, очевидно, уже прихлопнули бы нас.
— Командир, я не понимаю, отчего вы так спокойны?
— Оттого, что не война и мы на своих собственных полигонах находимся — не вижу ни единого повода кусать себе локти.
— Не видите? А вот я — вижу!
— На то вы и командующий, чтоб дальше всех видеть!
Командующего бесило, что командир явно над ним смеётся. А больше бесило то, что делает он это так тонко и аккуратно, что формальных поводов прицепиться нет.
— Когда у вас следующий сеанс связи?
— В двенадцать ноль-ноль.
— Приказываю всплыть и задраить этот лючок!
— Товарищ командующий, я категорически против! На море шторм, и рисковать жизнями людей непонятно для чего я не намерен!
— А я — намерен! Что значит «непонятно для чего»! Вы же — подводная лодка, а не баркас! Вы должны быть невидимы, ну так сделайтесь невидимыми! Шторм — так привяжите людей верёвкой! Что, я не понимаю, такая сложность — закрыть лючок?
— Товарищ командующий, мы и так невидимы — здесь никого нет, кроме нас на три квадрата во все стороны! Нас некому видеть, хоть бы мы и погремушки за собой тащили!
— Записать в вахтенный журнал: в управление кораблём вступил командующий!
— А у вас есть допуск к управлению кораблём такого типа?
— Командир, это уже хамство!
— Я знаю.
— Будьте добры, подготовьте командира отсека и командира кормовой швартовой команды для выхода наверх. На страховку — тоже офицера, никаких матросов и мичманов!
— Есть.
— Вот так бы и сразу!
Перед заступлением третьей смены в кают-компании было почти пусто. Половину личного состава, укаченного суточным штормом, тошнило по боевым постам и каютам, и стойкие к качке организмы наслаждались обильной едой — за себя и за того парня.
Миша складывал икру с бутербродов себе на один, а Слава с удивлением на него смотрел:
— Мишаня, а ты не лопнешь?
— Нет, Славик, у меня знаешь какой желудок эластичный?
— А лучше бы мозг, — прокомментировал замполит.
— Это было грубо, Сергей Семёнович, — заметил командир.
— Да, товарищ командир, спасибо! Вот если бы не вы, то я бы сейчас с плачем убежал бы отсюда!
— А вы, товарищ командир, конспекты его по политической подготовки видели? — заступился сам за себя зам.
— Нет, конечно, что я, из ума выжил и мне посмотреть больше некуда?
— Ну а я-то видел!
— Ну тебе то по должности положено, вот и терпи.
— Самый отвратительный конспект!
— Позвольте, а как же мой? — уточнил Слава.
— Твой тоже, но у него отвратительнее!
— Ха-ха! И тут я тебя обскакал, неудачник! Вестовой, а зачем ты мне это поставил? Я вижу, что суп, но к чёрту суп! Неси котлет, да побольше! Славик, а что ты не ешь почти ничего?
— Да что-то нет аппетита.
— К доктору сходи, что за подводник без аппетита! От отсутствия аппетита до потери любви к родине — один шаг! Скажите, Сергей Семёнович?
— А мне почём знать?
— Ну кто у нас главный специалист по любви к родине?
— Пожалуй, особист. Я больше за любовь к партии отвечаю.
— А что, вот мне всегда интересно было спросить, да я всё стеснялся, важнее: любовь к родине или любовь к партии?
— Михаил, я смотрю тебе совсем делать нечего?
— Нет, ну я пока обстановка располагает, тащ командир! Не отрываясь, так сказать, от исполнения долга!
— Ну на берега-то смотри. Вячеслав, с командиром кормовой швартовой команды, приготовьтесь к выходу наверх, там лючок какой-то хлопает, подозреваю, что над твоим отсеком. Командующий приказал задраить. На страховку… кого бы вам поставить…
— А давайте я, товарищ командир!
— Давайте Сергей Семёнович, давайте.
После всплытия, командир долго маневрировал, пытаясь встать на волну и занять более выигрышное положение от ветра. Лодку бросало, как щепку, и здесь, наверху, она была практически беспомощна перед стихией. Командующий, вступивший в командование кораблём, ушёл на обед, поручив командиру доложить ему, по окончании манёвров, об исполнении его приказания. — И не возитесь там, не рассусоливайте — минут двадцать и погружение!
— Так, — инструктировал командир Славу, командира кормовой швартовой команды Сашу (лейтенант, но не за горами уже и старлей) и замполита, — ваша задача проста: выйти, задраить лючок и быстро назад. Если там какие сложности, бросайте всё на хуй и сразу назад, ясно? Постоянно находиться на страховке — это понятно? Сергей Семёнович, теперь ты. Тебя прикуют у рубки цепью, страховочный привяжут, но вылет у него большой, если что — держи в руках и не бросай, это ясно? Слабину выбирай всё время, в натяг держи. Всё время в натяг, запомни! Рукавицы где твои? Какие, в жопу, перчатки, Эй! Дайте кто-нибудь политруку варежки!
Кормовая швартовая команда в полном составе толпилась в ограждении рубки.
Слава, Саша и замполит в валенках, ватных штанах, тулупах, шапках-ушанках (май в Баренцевом море — та ещё весна) и спасательных жилетах вышли на исходную. Приковав замполита цепью (подёргав его, для проверки надёжности), уже вдвоём двинулись в корму.
Командир на мостике следил за волной. Закурил, сигарету немедленно затушило дождём, но он этого не заметил и продолжал что-то там в себя втягивать.
Слава с Сашей дошли до лючка, когда командир увидел ту волну — то ли девятой она была, то ли двенадцатой, но огромная, выше лодки, она нарастала с носа.
— Назад! Назад бегом! — заорал командир, но было поздно.
Зам тоже заметил волну и, согнувшись, сильнее вцепился руками в страховочный.
— Назад, назад! — заорал и он и начал тянуть страховочный на себя.
Слава и Саша услышали, почувствовали и обернулись, но было поздно — волна слизала их с корпуса, как мармеладки с ладошки. Страховочный резко дёрнулся в руках зама и медленно пополз сквозь сжатые ладони. От удара волной и рывка цепи в спине его что-то хрустнуло, но боли не было, либо была, но он её не чувствовал.
Швартовая команда ринулась из ограждения наружу.
— Куда! Куда, блядь! — орал командир. — Все на страховку!
У выхода из рубки немного замешкались, — передние вроде как командирского окрика испугались, а задние принялись их расталкивать и выпихивать наружу. Зама было не видно, где-то сбоку, снаружи он орал: «Бля-а-а-а! Сука-а-аа-! Скорее! Скорее! Су-у-у-ука-а-а-а!». И крик этот, без отчаяния, но хлёсткий, на грани срыва в фальцет, вырвал их наружу быстрее пинков и тычков.
Трое выскочили без страховки и побежали на корму со спасательными кругами, двое подскочили к заму перехватить конец, но в этот момент он с глухим мокрым звуком лопнул, и зам упал на спину. Если бы не цепь, свалился бы за борт.
Спасательные круги почти попали в цель, и до одного из них Слава почти дотронулся, но лопнувший конец инерцией откинул его назад, а там подхватила уходящая волна и через несколько минут его уже не было видно.
Зам стоял на коленях и держался за голову: когда его отбросило, шапку он потерял. Оставшиеся швартовщики подхватили его под руки и затащили в рубку, когда отняли руки от лица, то увидели, что всё лицо его в крови, и сразу не моги понять откуда кровь — ран на голове не было. Зама трясло и, когда сняли рукавицы, увидели, что кровь шла из порезов на руках — обе ладони были разрезаны до кости, и один не выдержал вида белых костей, вывернутого красного мяса и его вырвало прямо на зама. Командир метался по мостику и, приказав рулевому сигнальщику не сводить глаз с места падения людей, начал маневрировать.
— Человек за бортом! — объявили по кораблю.
И Миша вскочил, потом сел, потом заметался глазами по пульту и почувствовал, как сильно задрожали пальцы, но плохие мысли погнал от себя сразу и решительно.
— Всё будет хорошо! — сказал (почти крикнул) он вслух. — Всё обязано быть хорошо!
Но это самое «всё» не услышало его. А может, услышало, да было занято чем-то другим, чем-то более важным. Всего на всех всегда не хватает. Это следует признать. И за неимением лучшего выхода — смириться.
— Что там у вас происходит? — спросил в переговорное из центрального командующий, но командиру отвечать было некогда.
— Прошу не занимать линию связи! — крикнул он в ответ.
— Что-о-о? Я не понял!
— На хуй пошёл, что ты не понял! — командир был в отчаянии. Он чувствовал свою вину. За то, что не настоял на своём. За то, что, больше всего от усталости, поддался на авантюрную затею старшего на борту. И теперь ему было уже плевать на приличия, условности и ранги.
Маневрировали долго: когда стемнело, включили прожектора и шарили их лучами по покатым бокам чёрных волн. На мостике и в ограждении рубки все уже давно были насквозь мокрыми, но никто не решался сказать командиру, что дальнейшие поиски бесполезны. К тому же, зачем говорить то, что сам он знал и понимал не хуже них. В итоге не нашли ничего и на следующий день, отметив точку на карте, где погибли два их товарища, погрузились.
***
Когда пальцы соскользнули со спасательного круга, Слава не отчаялся — вот она, лодка, вон они, люди, бегают, и главное сейчас — удержаться на плаву. Его отбросило волной и он запутался в тулупе и спасательном жилете, но, нахлебавшись воды, всё-таки успел тулуп скинуть. Хотел надеть жилет обратно, но не удержал — его вырвало волной из рук вместе с тулупом. Было ужасно холодно. Глаза, нос и гортань щипало от соли. Но ва-ленки — теперь надо скинуть валенки, они стали сейчас как бетонные колодки и неумолимо тянули ко дну. Маша, как же Маша с Егоркой — была единственная мысль, которая волновала его сейчас. Не сумев стащить валенки ногой об ногу, он начал нырять, пытаясь достать их руками. Один снять ему почти удалось, но волны неумолимо накатывали и швыряли его из стороны в сторону, прибивали сверху, толкали вниз, на глубину. Захлёбываясь, Слава увидел, как скрылся под водой Саша. Слава ещё попытался удержаться на плаву, но силы оставили его окончательно, мышцы начали сводить судороги от холода, и Славу окутала темнота, в последнем проблеске сознания подарив ему образ смеющегося Егорки и Маши, обнажённой, лежавшей на спине и смущающейся смотреть на него. «Ну посмотри же на меня» — подумал Слава. И это была последняя мысль в его жизни.