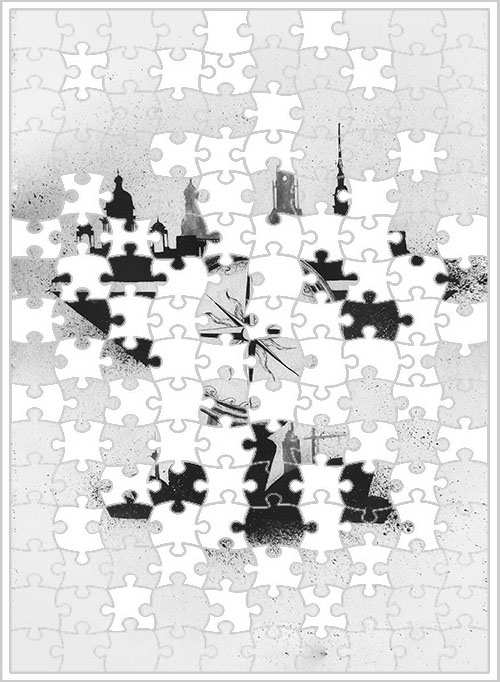***
Их немедленно отозвали назад в базу. Шли, казалось, вечность, все ходили понурые и почти не разговаривали. Все понимали, что случилось, но осознать этого не хотели. Даже команды по трансляции отдавались в пол-голоса. Командир, спустившись с мостика, сел в кресло в чём был и только отмахнулся от старпома, когда тот сказал, что вам надо переодеться, товарищ командир. С него текла вода и под креслом образовалась лужица, его бил озноб то ли от холода, то ли от нервов. На швартовку он не вышел — швартовался старпом, а он так и сидел, глядя в одну точку. Закрывал глаза, отключаясь, а потом опять смотрел в неё же.
По окончании швартовки старший на борту немедленно ушёл с корабля, буркнув на прощание что-то непонятное и пряча глаза от командира, как будто тот искал его взгляд, но командир даже не обратил на него внимания. Понабежало всяких: из штаба дивизии, из штаба флотилии и из политотделов всех рангов. Перебивая друг друга, они что-то говорили, что-то спрашивали и требовали немедленно доложить обстоятельства, но командир будто бы и не видел их — так и сидел молча ещё долго.
Миша пришёл в их со Славой каюту первый раз уже после того, как вывели реакторы, и делать ему на пульте стало совсем нечего, да и глупо оставаться там сидеть: сколько ни сиди, а принять реальность всё равно придётся, невозможно всё время от неё скрываться за стержнями и решётками. В каюте Миша сел на диван (это была Славина койка, Миша спал сверху), разгладил РБ на коленях и всё никак не решался оглянуться вокруг. Жужжали светильники, иногда подкапывал кран. Других звуков вокруг Миши не было — лодка словно уснула. В изголовье Славиной кровати, аккуратно вставленная в рамочку, висела та самая фотография Маши с Егоркой, которой тогда, первый раз увидев её в общежитии, восхищался Миша. На ней Маша сидела на скамеечке в каком-то парке (Миша не узнавал в каком) в лёгком летнем платьице с глубоким вырезом на груди и держала на руках ещё совсем маленького Егорку, улыбаясь фотографу. Мише вдруг стало неудобно за то, что он тогда обратил внимание на её грудь, а не на что-то другое, и сказал об этом Славе вслух, и теперь ему было стыдно и перед Славой, и перед Машей, хотя об этом никто, кроме него, во всём мире теперь уже и не знал. Во всём мире. Фраза эта, промелькнувшая было в мозгу, не ушла, а вернулась и сжала ледяными пальцами мозг, дотронулась до груди в том месте, где сердце. И вдруг впервые Миша понял, что ничего ещё не закончилось, а только начинается. Именно ему придётся рассказать об этом Маше, на правах давнишнего и лучшего друга Славы. Мысль эта вызвала у него панику, какой он не испытывал слишком давно уже. И Миша пожалел о том, что не он был командиром этого блядского отсека с этим ёбаным лючком: одно дело, когда умер и взятки с тебя гладки, другое дело — людям в глаза смотреть и объяснять, почему ты не умер. Плакать было неправильно. Глаза щипало, но плакать, когда ты жив и сидишь в тёплой уютной каюте, а друг твой неизвестно где и его уже едят рыбы, и вот женщина с ребёнком, которая его любит и ждёт, и заявление в ЗАГС они собирались подавать чуть ли не послезавтра… И она ещё ничего не знает, и слёзы эти — её, а не твои. Неправильно плакать, а что правильно? Что делать-то теперь, а?
Лето, неожиданно, к середине мая, пришло в Ленинград. Видимо, устав от нерешительности весны, не стало ждать своей очереди, а, отодвинув товарку, вступило в права решительно и сразу — в один день. Пышные зелёные деревья, синее, ещё не выгоревшее от зноя (а, впрочем, когда оно в Ленинграде выгорало — смех, а не фраза) небо, умытые и блестящие окна домов, чёрный, чистый асфальт: ну кто бы мог подумать, что вот совсем недавно была мерзкая зима? Маша точно не могла, да и не хотела, особенно сейчас, когда шла с Егоркой домой, и вот-вот, не сегодня так завтра должен был приехать Слава, и странно, что он до сих пор не шлёт телеграмму. Видимо, как и прошлый раз, планирует сюрприз. Ох и влетит ему от меня за это, подумала Маша, ох и накостыляю по шее этому артисту!
Недалеко от входа в их арку стоял морской офицер и курил. Маше он показался смутно знакомым, да ещё посмотрел прямо на неё, но на это она внимания не обратила — мужчины часто смотрели на неё. Правда этот смотрел как-то странно, но как Маша не поняла — он быстро опустил глаза вниз, на небольшой чемодан, что стоял у его ног.
— А мы его знаем, мама? — спросил Егорка.
— Кого, Егорка?
— Ну вот этого дяденьку, что стоял.
— Нет, Егорка, откуда нам его знать?
— Странно, а мне показалось, что знаем.
— Бывает, Егорка!
— Да, если бы мы его знали, то я бы его узнал, правда?
— Правда, сынок, не скачи через две ступеньки,
сколько тебе можно говорить!
— Мама, ну я уже большой!
— Я тоже большая. И Слава большой: видел ты, как мы через две ступеньки скачем? Вот и ты не скачи.
Петрович был опять пьян и изрядно.
— Вы? — пахнул он на них перегаром из своей комнаты. — Странно, чот, Машка Славона твоего нет. Уж не бросил ли тебя?
— Ой, Петрович, так смешно, что спасу нет! Опять ты пьяный?
— А то! Имею право, не украл!
— Ну так и сиди у себя, да форточку хоть открой — всю квартиру завонял!
В дверь постучали.
— Я! Я открою! — Маша распахнула дверь. Тот самый офицер, что смотрел на них на улице, стоял на пороге.
— Здравствуйте. Можно войти?
— Да, а вы к кому?
— Вы — Маша?
— Да.
— Я к вам. Я Миша, друг Славы, может слышали?
— Да, конечно, Миша, заходите, а где Слава? — и Маша попыталась заглянуть Мише за спину, хотя и так видела, что там никого нет.
— Маша. У меня плохие новости для вас, простите. Слава погиб.
— Да? — Маша всё ещё пыталась рассмотреть, где прячется Слава. — Не поняла, что вы сказали?
— Слава погиб.
Маша смотрела на Мишу секунду, может две, которые показались тому не временем, а вязкой патокой, в которой застыло всё: Маша с приоткрытым ртом, Егорка на полу, снимающий ботинки, и старик в тельняшке, схватившийся за голову. А потом Маша начала медленно оседать на пол. Петрович, а следом и Миша, подхватили её под руки и усадили на полку для обуви.
— Что? Я… не совсем поняла, что вы сказали?
Маша всё поняла, конечно, что тут можно не понять, но картина её мира, так недавно нарисованного до мелких деталей, теперь так завораживающе осыпалась в труху, что мешала сосредоточиться на одной, самой важной мысли.
— Пойдём-ка, малец, — Петрович обнял малыша за плечи и увёл к себе в комнату, через пару секунд оттуда донеслись звуки телевизора с выкрученной на всю катушку громкостью. Молчать Мише стало неловко, а что говорить — не ясно.
— Я вам вещи его некоторые привёз. Если вам нужно, я не знаю, у него же нет никого, кроме вас и… меня…
— Вещи?
— Да. Тут пилотка его, записи кое-какие. Вот медаль, он получил в прошлом году, альбом наш, с училища ещё…
— Пилотка?
— Ну если вам надо, я не знаю, простите… Он любил вас очень, и я подумал, что вы тоже, знаете, может… и вам хотелось бы… Это глупо, да? Маша?
Маша молчала и растерянно смотрела на Мишу, Миша видел, что у неё дрожат губы и лицо стало цветом, как мел. Он растерялся и не знал, что ему делать: говорить? Молчать? Пора уже утешать или просто оставить вещи и уйти?
— А почему же вы не дали телеграмму? Я же ждала, волноваться уже начала…
Фраза прозвучала глупо и повисла в воздухе между ними так и не оконченной.
— Простите, мне нужно побыть одной, — Маша попыталась встать, но ноги не слушались, она остановила жестом руки Мишу, который шевельнулся было ей помочь, выдохнула, встала, прошла в ванную комнату, закрыла за собой дверь и включила воду.
«Тоже физику не учила, — подумал Миша, — и думает, что её не будет слышно».
Он переминался с ноги на ногу и всё ещё не знал, что ему делать— и уйти было нелепо, и стоять здесь невыносимо. Из комнаты Петровича выглянул Егорка:
— А Слава не приедет?
— Нет, малыш, не приедет.
— Никогда?
— Никогда.
— А вы тот дяденька с его фотографии?
— Да. Не знаю. Наверняка… Смотря какая у вас фотография. Но у нас много, где мы вместе.
— Вы друг его?
— Да.
— Вы с тётей Виленой живёте?
— С тётей… А, да — это моя мама.
— У вас столько всего интересного дома.
— Да? Да, наверняка…
— У меня луноход сломался, вы не могли бы его починить? Пожалуйста.
— Да… могу посмотреть… давай… да.
Делать хоть что-то было намного легче, проще и понятнее, чем просто стоять и думать, что делать.
Егорка сбегал в комнату и принёс луноход.
— А отвёртки есть у вас? — спросил Миша, повертев игрушку в руках.
— Отвёртки? Дядя Петя, а у тебя есть отвёртки? Петрович вышел из комнаты:
— Там, под ванной.
— Там Маша. Закрылась.
— А что она там делает?
— А мне почём знать?
— Маша, — Петрович постучал в ванную. — Слышишь? Открой, Маша! Мне срочно! Маша! Маша, не дури там, слышишь, дверь открой!
Петрович молотил в дверь кулаками, в ответ ему оттуда только шумела вода.
— Военный, — обернулся Петрович к Мише, — а ну-ка! Давай!
Хлипкую дверь выбили с первого раза: Маша сидела на полу между унитазом и ванной, обхватив голову руками и прижав её к коленям, на треск двери и протиснувшегося к ней Петровича, она не обратила ровно никакого внимания.
— Машка, слышишь, ты не дури тут, — Петрович опустился перед ней на колени и тряс за плечи, — ты не вздумай, Машка! Давай, плачь, плачь, не держи, слышишь меня!
— Петрович, сколько раз я просила не называть меня Машкой?
— Не знаю, Машка, что я считал, что ли?
— Ну я просила?
— Наверняка просила.
— Ну так и не называй меня так больше! Слышишь! Никогда не называй меня Машкой! — она кричала ему прямо в лицо, схватив его за тельняшку на груди и тряся изо всех сил.
— Ну ладно, так бы сразу и сказала. Мне отвёртки нужны, я возьму?
Егорка, услышав, как мама кричит в ванной, вопросительно посмотрел на Мишу, он слышал, что мама повышает голос, но редко. И никогда это не было злостью, просто иногда необходимостью или какими-то другими эмоциями, но не злостью.
— Всё нормально, малыш, мама устала просто, но это пройдёт, не бойся.
Из ванной вышел Петрович, аккуратно прикрыл за собой дверь и подал Мише ящичек с инструментом.
— А крепкие нынче тельняшки у вас шьют. Думал душу из меня вытрясет, а тельняшка выдержала. Надо же.
От Петровича по-прежнему разило перегаром, но других признаков опьянения не было, — трезв как стекло, подумал бы Миша, если бы не запах. С луноходом возиться долго не пришлось — просто отвалился один проводок и Миша быстро приладил его на место. Больше поводов оставаться у него не было, за всё время он так и не прошёл дальше вешалки для одежды, и опять топтаться на пороге казалось ему совсем уж неуместным. Маша из ванной не выходила, Петрович топтался тут же и, периодически, осторожно, через щёлку в двери, заглядывал к ней.
Миша аккуратной стопочкой сложил Славины вещи тут же, в прихожей, на газетку и, не зная, как ему поступить с Машей, принялся прощаться с Егоркой и Петровичем.
— Подожди, так как ты уходишь? — удивился Петрович. — А мы как? А она?
И он мотнул головой в сторону ванной.
— Так а я тут причём? Что я могу? В смысле, кто я такой?
— Это не важно, ты друг его, как ты можешь их вот так вот, запросто, бросить? А что им теперь делать-то?
Мишу немного злило это и отчасти потому, что он понимал, что в чём-то этот сильно потрёпанный жизнью и алкоголем старик прав. Жизнь друга уберечь он не смог (да и не мог, физически, но это не отменяет же того, что не смог) и сам сейчас, что: вот сообщил, вещи отдал и всё, иди гуляй, отпуск же — порхай, как бабочка, ебись, как конь? Но и что делать в такой ситуации, к которой он явно не был готов (просто не думал о ней с этой точки зрения), Миша плохо себе представлял. Выручил Петрович.
— Ты это. Зайди завтра — дверь вон нам в ванную сломал, а чинить кто будет? Зайди уж, хоть дверь почини.
— Хорошо. Обязательно зайду. Завтра же, давайте, где-нибудь после обеда.
— Я дома круглые сутки, так что хоть бы и ближе к полночи.
На этом и расстались. Миша напоследок потрепал волосы Егорке, который выбежал сказать спасибо за починенный луноход.
Домой шлось тяжело и ничего не радовало: ни погода, ни весенний Ленинград, ни красивые девушки, которые проснулись от зимней спячки и массово гуляли по улицам, проспектам, площадям и скверикам. Просидев в парке дотемна, Миша видел, что вокруг всё не так: не так поют птицы, не так шелестят листвой деревья, не так звякают трамваи, не так смеются люди и, смеясь, раздражают. И хочется чего-то, а ничего не хочется. Так и сидеть бы тут до скончания веков и думать, как бы всё исправить.
Дома было тихо: мама тоже переживала из-за Славы, теперь ещё больше боялась за сына и сочувствовала Маше, даже предлагала поехать вместе с Мишей к ней, но Миша счёл это совсем уж ерундовой затеей: не маленький, сказал он маме, справлюсь и сам. Что как-то
справится было понятно, но волновалась Вилена Тимофеевна совсем не за него, а за Машу — хоть уже почти и не болело, но каково это, потерять мужа, она помнила хорошо. А каково это — потерять любимого человека в тот момент, когда чувства только зародились и особо остры, особо глубоки и бескомпромиссны, хорошо могла себе представить.
— Ужин накрывать?
— Нет, мама, спасибо, я не голоден.
— Посидишь со мной?
— Позже, мама, я к себе, надо побыть одному.
«Отчего так глупы и упрямы эти взрослые дети? — думала Вилена Тимофеевна, убирая в холодильник фаршированную утку и салаты: праздничный обед, приготовленный ею к приезду сына, пожалуй, так и придётся выбросить нетронутым. — Отчего они думают, что свои чувства надо скрывать от родителей? Отчего стесняются нас и так любят уединяться? Одиночество — единственное, чего у меня сейчас в избытке, и я с превеликим удовольствием поделилась бы им с кем-нибудь. С кем угодно. Но, как хорошо, что он дома!».
Миша сидел в своей комнате на полу, свет не включал. Фонари с улицы светили жёлтым квадратом окна на него и на пол вокруг него, где были разложены остальные Славины вещи: какие-то конспекты, какие-то грамоты, какие-то дневники и парадная фуражка, сшитая на заказ в Севастополе, носить которую Миша не планировал, а вот, что отдал пилотку Маше немного жалел — пилотку он бы носил. Из одной тетрадки выскользнула на пол та самая фотография, где Маша с Егоркой сидели на скамейке и смеялась. Миша долго её разглядывал, потом встал и подошёл к окну: об него уже давно бился мотылёк и уже мешал. Миша, аккуратно словив, выбросил его в форточку и, прижавшись лбом к стеклу, проследил, как он резво рванул к фонарю, расталкивая своих собратьев и борясь с ними за право умереть первым, а после долго смотрел на бледную ноздреватую луну. Маша ему нравилась, но думал он сейчас об одном: сколько пройдёт времени и что должно случиться в её жизни, чтоб она смогла вот так же, как на фото, от души, смеяться?
***
С утра в квартире было тихо и это казалось странным: Петрович спал чутко и всегда слышал, как Маша с Егоркой утром уходят. Провалявшись в кровати до восьми, он решил сходить попить воды да заодно уже и вставать. На кухне был Егорка, он сидел за столом и ел криво отрезанный кусок булки, намазанный маслом и вареньем. Варенье было на столе, на руках и по всему лицу у Егорки.
— Завтрак чемпиона?
— Угумн…
— Не говори с набитым ртом, тебя мама не учила? Егорка старательно прожевал:
— Больше ничего не нашёл съедобного.
— А чего ты не в садике?
— Мама сказала, что сегодня не пойдём никуда.
— А сама-то она где?
— Лежит.
— Плачет, что ли?
— Нет, в стенку смотрит и молчит. Попросила меня сходить и самому позавтракать, а если не найду ничего, то тогда уже её звать.
— И ты решил не звать?
— Она странная какая-то, как будто устала очень. Но мы же не делали ничего вчера, и всю ночь она же ничего не делала. Пусть полежит.
— Так, положи-ка этот кусок на тарелку. Я тебе сейчас чего-нибудь сварганю на завтрак, а потом уже сладкое.
Петрович пожарил яичницу (решил, что это быстрее и полезнее на завтрак, чем макароны с тушёнкой), покормил Егорку и включил ему телевизор. Сам долго курил на кухне, молча с кем-то разговаривал, что видно было по жестикуляции, а потом постучал в дверь Маши. Никто не ответил, и Петрович осторожно приоткрыл дверь:
— Маша? Ты тут одетая хоть, а то я вхожу?
Ответа не последовало. Петрович вошёл — Маша лежала на постели в той же одежде, в которой пришла вчера с работы, свернувшись калачиком и глядя в стену. Петрович пододвинул стул и сел. Покашлял — ноль реакции.
— Ты на работу-то чего не пошла? А лежишь чего? Плохо тебе? Может доктора позвать? Или что теперь: всю жизнь лежать будешь? Нет, ты полежи, раз надо, дело-то такое, мать, я понимаю. Сам не раз… это… ну, в общем… терял. Но то на войне всё было и там не так, там привыкаешь и просто ждёшь своей очереди, а тут, да… кто бы мог этого ждать…
— Петрович… — Маша зачем-то шептала. — Тут я, ну, говорю же…
— Егорку покорми…
— Да покормил уже, что я, без понятия совсем по-твоему?
— Спасибо тебе, Петрович…
— Ты это, — Петрович встал, подтянул одеяло и накрыл им Машу, — лежи, короче, если что — зови. И, знаешь что, ты вот не ревела, я слышал, а зря. Не держи в себе — легче будет… ну… ладно… пошёл, значит, я… Лежи.
С этим надо было что-то делать, но что — пока было неясно. «Ладно, — подумал Петрович, — подождём удара, а там будем подстраиваться!». Ужасно хотелось выпить, но, судя по всему, придётся терпеть.
Миша пришёл к обеду (Маша из комнаты так и не выходила), переоделся у Петровича и взялся за дверь. Когда уже заканчивал, из комнаты вышла Маша, и Миша узнал её не сразу: бледная, растрёпанная с блуждающим взглядом и в помятой одежде — она была не очень похожа на ту, вчерашнюю, которую он увидел на улице. И не сказать, что выглядела прямо вот намного хуже (особенно если ты помнил, как она выглядела вчера), но какое-то безумие будто поселилось в ней и выглядывало наружу, отталкивая от себя со страшной силой. Маша, выйдя, растерялась: со спины Миша в тельняшке и брюках был не прямо как две капли воды, но похож на Славу, да и не то, что офицеры, а и просто молодые мужчины давно не бывали в их доме и вот на днях был Слава, а теперь — он. И Маша на миг всполошилась, растерялась, и злость за глупую шутку, вместе с отчаянной радостью, колыхнулись где-то внутри и ринулись к глазам и к горлу, а потом Миша обернулся, как-то неловко попытался улыбнуться, как-то неуклюже кивнул и наваждение схлынуло, как и не было его, и тоненькая ниточка внутри неё, на которой висела надежда неизвестно на что, звонко лопнула, больно ударив внутри, и слёзы вдруг хлынули потоками, — не больно, не стыдно, не обидно, а просто потекли. Маша захлопнула дверь, Миша вернулся к работе. «Надо же как-то утешить, что-то сказать, приободрить, — думал Миша, — может, даже надавить на то, что Славе бы этого не понравилось, что он бы этого не хотел, а хотел бы только радости для неё, только счастья, но, блядь, какое же это будет враньё! Слава подолгу сидел с её фотографией, разговаривал с ней во сне и уж точно не хотел лежать на дне и желать ей оттуда счастья. «Ну почему не я, чёрт, насколько бы это было легче!»
— А ты рукастый! — сказал из-за спины Петрович, неизвестно как там появившийся. — Можешь шабашить, пока в отпуске.
— Я и не то ещё могу, я же этот, как его, профессионал.
— Ага. Ясно-понятно, что не труба на бане. Пойдёшь сейчас?
— Пойду.
— И что?
— И ничего. Просто пойду.
— А пойдём-ка по стакану, если не брезгуешь с пролетариатом.
— А пойдём. Если и брезгую, то потерплю.
— Слушай, — Петрович занюхал первую рукавом, — а у тебя планы там какие на отпуск грандиозные?
«Вот неделю назад, буквально, были», — подумал Миша.
— Да нет. Никаких. Похожу тут… по городу. Съезжу, может, куда. Наливай, чего ты ждёшь-то? Второго пришествия?
— Ты бы знаешь чего… помог тут мне.
— Я?
— Ну.
— С чем?
— С ними, — и Петрович кивнул головой в сторону кухонной двери.
— С ними-то как я тебе помогу?
— Не знаю, у тебя же высшее образование, а не у меня, вот ты и подумай. Но смотри: вот Маша с твоего прошлого прихода из комнаты не выходила, но тишина была, а теперь — слышишь (оба прислушались): ревёт. Значит и до завтра не выйдет, а Егорку надо бы в садик отвести, он сегодня целый день в квартире просидел. Да и к ней на работу сходить бы надо — объяснить ситуацию, а то, знаешь, слёзы-то высохнут и жизнь надо будет продолжать, а как, без работы-то?
— Ну, в принципе, могу, да. Объясни мне, где садик и её работа, всё организую. Я с людьми разговаривать умею.
— Это я вижу. А сегодня?
— А что сегодня?
— Макароны с тушёнкой у нас и шаром покати. Ну полбулки ещё есть, ты в магазин бы сходил, что ли, и Егорку с собой взял — проветрить его.
— Я с детьми не очень как-то… не умею.
— Да ты не ссы — он же не грудной, титьку ему давать не надо, да и Егорка парень самостоятельный, за тобой ещё присмотрит.
— Ну давай тогда по третьей, и мы двинем!
— А остальное?
— Петрович показал бутылку.
— А остальное — потом! Я же не могу с ребёнком по улице пьяный ходить!
— Тоже верно. Ну… давай… не чокаясь.
Егорку надо было одеть — не вести же его на улицу в колготах и рубашке. Петрович осторожно зашёл в комнату Маши — она не обратила на это никакого внимания, но плакать стала тише, даже не плакала, а лежала и всхлипывала.
— Машка, это я… ой, Маша, простите старческий маразм, я тут кое-что… взять надо. Ты лежи-лежи, я аккуратно, это по делу, не переживай. Я тут… сейчас… секундочку… а, ну вот… всё… пошёл-пошёл…
Своих детей Петрович никогда не растил, чужих всё время не то, что прямо избегал, но старался держаться в стороне от бытовой составляющей. Миша в этих делах тоже был подкован слабо, да, к тому же и не на все копыта — только и помнил, как его самого одевали, хорошо ещё, что мода с тех пор не сильно изменилась. Кое-как они снарядили Егорку и обрадованные тому, что уже и полдела сделали, отправились на прогулку.
— Вы там смотрите на дороге внимательно только! — крикнул им вслед Петрович.
— Да не маленькие! — ответил Егорка, а Миша промолчал, потому что хотел сказать то же самое, но успел только открыть рот.
Едва Петрович захлопнул дверь «Дерзят ещё!» из своей комнаты выскочила Маша:
— Где Егорка? Петрович, я же… на тебя… я…
— Спокойно, Маша, они с Мишей пошли в магазин и прогуляться, тебе не о чем волноваться.
Петрович неумело и робко, как хрустальную вазу, приобнял Машу за плечи, заглянул в глаза (красные, опухшие и когда-то карие, а теперь и не поймёшь какого цвета):
— Успокойся… деточка (на слове «деточка» он споткнулся), всё будет хорошо, поверь мне.
Маша неожиданно, резко обняла Петровича, уткнулась ему в плечо и заплакала громко и некрасиво.
— Ну-ну, деточка, ну-ну… поплачь, оно, дело такое, нужное, поплачь…
***
— А ты Славу давно знаешь? — Егорка шёл, стараясь шагать широко, рядом с Мишей, крепко держа его за руку.
— Очень давно. Лет десять уже, закадычные мы с ним дружки.
— А что такое закадычные?
— Это не разлей вода (а вода-то и разлила — тут же дошло до Миши, но виду он не показал). И в горе мы с ним, и в радости, и делимся друг с другом всем. Вот всё у нас общее (говорить о Славе в прошедшем времени Миша ещё не научился).
— Хорошо вам.
— Да.
— А он же папа мой?
— Кто?
— Ну Слава.
— Слушай, ну да, выходит, как и папа был бы, если бы вот не случилось…такое…
— Он умер?
— Да, Егорка, умер.
— Заболел?
— Можно и так сказать. Но ты не грусти, знаешь, он бы не хотел, чтоб ты грустил (врать Егорке было отчего-то легче), он бы хотел, чтоб ты радовался жизни и приключениям и свою маму чтоб поддерживал. Ты теперь старший мужчина в семье — на кого ей опереться теперь?
— Он хороший был, — вздохнул Егорка, — и всё равно мне грустно.
— И мне, Егорка, грустно, и маме твоей грустно, но что поделаешь: жизнь, Егорка, штука такая, не всегда весёлая.
— А ей теперь всегда будет грустно? А мне?
— Нет, не всегда, навсегда ничего не бывает, и грусть тоже пройдёт.
— А сейчас кажется, что нет.
— И мне кажется, что нет, но, вот увидишь, пройдёт.
— А ты не обманываешь?
— Я? Я никогда не обманываю, тем более детей. А не хочешь ли ты мороженого, например? Не то, чтобы помогает от грусти, но и не мешает же ей?
— Я не знаю, мне, наверное, нельзя, я же ещё не обедал.
— Дело поправимое — вон столовая, пойдём по котлете ударим, да и делов!
— А зачем нам ударять по котлетам?
— Съедим, значит, это просто выражение такое.
— Взрослое?
— Да нет, обычное.
— Смешно звучит. А меня не наругают, если я так скажу?
— Нет, что ты! Ну так как, насчёт котлет, а потом мороженого?
В столовой по причине буднего дня и времени далеко за обед посетителей почти не было. Миша быстро провёл ревизию блюд (а за годы учёбы в военном училище и службы уж что-что, а нравиться поварихам он научился и исполнял это всегда филигранно) и от первого решено было отказаться — взяли макарон с сыром, тефтели и по компоту. Салат? Нет, сказал Миша, капусту оставим парнокопытным, а мы, хищники, предпочитаем мясо. Ну и макароны. Мороженое решили есть в парке на лавочке — и Егорка больше кислорода получит, и Миша по нормальному солнышку истосковался. Ели мороженое и кормили припасённым из столовой куском хлеба голубей, Егорка расспрашивал про морскую службу — всё никак не мог решить, кем он станет, когда вырастет: космонавтом, пожарным или моряком, и Миша охотно поддержал эти его выборы профессий, но настаивал, что моряком всё-таки лучше всего. Они уже съели мороженое, а голуби склевали весь хлеб и топтались вокруг, нагло заглядывая в глаза, а Миша всё перечислял преимущества, загибая пальцы, а, когда они заканчивались, разгибал и загибал их вновь и выходило, что, как ни крути, а нет более достойного занятия для такого красивого и умного мальчика, как Егорка в будущей его жизни. Потом они ещё погуляли, и Миша вслух удивлялся, как в такого маленького Егорку помещается столько много вопросов, а про себя думал, что дети, оказывается, не так уж и страшны и неудобны, как он думал раньше, и, мало того, что общаться с Егоркой оказалось приятно, но ещё он впервые с момента гибели Славы смог отвлечься от бесконечных мыслей об одном и том же, об одном и том же, но с разных сторон и смог думать об этом отвлечённо.
Зайдя в магазин, они купили продуктов, но Миша, не больно умея готовить и не сильно разбираясь в кухонных делах, ходил по магазину растеряно: не себе же продукты покупал и, в итоге, набрал того, что он считал полезным: кашу «Геркулес», замороженные пельмени, полуфабрикаты шницелей, гречку, молоко и кефир.
Маша ждала — она вышла из комнаты сразу, как только они вошли. Она пыталась привести себя в порядок, но выглядела не намного лучше, хоть была умыта, переодета и причёсана.
— Миша… слушайте, я хочу сказать, вы меня простите, пожалуйста, я… так неудобно вышло, но… спасибо вам… вы не должны были…
Миша остановил её жестом руки:
— Перестаньте, Маша, здесь не за что извиняться и вы совсем меня не обременили.
— Хорошо. Мне Пётр рассказал про свои просьбы к вам, так вот — ничего не надо, слышите? Ничего. Я сама справлюсь, а за прогулку спасибо.
— Но мне не тяжело, я могу помочь.
— Нет, не стоит. Я сама должна, мне же с этим жить, так что же откладывать.
— Ну как знаете, но вот телефон я здесь наш напишу, если что-то понадобится, вы без всяких неудобств просто звоните и всё, давайте так договоримся?
— Да, хорошо.
Маша забрала Егорку и увела его в комнату.
— …а Миша к нам ещё придёт? — услышал он вопрос Егорки, но что ответила Маша уже было не разобрать.
Из кухни выглянул Петрович и вопросительно качнул подбородком. Миша показал ему сумку с продуктами, Петрович махнул — проходи. Аккуратно, чтобы не тревожить Машу, они прикрыли дверь в кухню, разложили продукты и сели допивать водку.
***
Маша и вправду собиралась на следующий день начинать заново жить. Радости или лёгкости от этого заново она не ожидала и, если бы не Егорка, то вообще не понятно, как бы собиралась выходить из своего состояния, когда и какими усилиями. Но утром оказалось, что планировать и выполнять — несколько разные вещи. Вторую ночь проведя почти без сна, Маша чувствовала себя неожиданно старой, тяжёлой и абсолютно бессильной и оттого решила, что Егорку в сад она отведёт, но на работе попросит отпуск, тем более, что, собираясь выходить замуж и проводить медовый месяц, а потом и вовсе уезжать, заранее об этом договорилась.
Начальник внимательно её выслушал, хотя говорила она мало и, к её некоторому ужасу, даже обрадовался, что Маша никуда не уезжает — он давно прочил ей продвижение по службе и собирался назначать начальником отдела, а после уже и своим заместителем. Отпустить Машу в отпуск согласился сразу и вчерашний прогул ей с готовностью простил — причина, мол, уважительная и что мы, не люди тут? После получения его согласия, Маша почти не слушала, что он говорил, а он говорил и уйти ей было неудобно, но и выслушивать его советы о том, как правильнее позабыть о печали и вернуться к нормальной жизни, долго она не смогла бы. К какой нормальной жизни? Как теперь жизнь может быть нормальной? Он что — вообще ничего не понимает, сидит упитанный, с красной рожей и с пятном на рубашке, которое прикрывает галстук, но вон оно — его всё равно видно и курит, поминутно стряхивая, словно торопясь куда-то, а, по сути, куда ему торопиться? А ей куда? А, главное, зачем? К счастью, зазвонил телефон и по тому, как он подскочил, как бросил окурок в пепельницу и как даже встал с кресла, чтобы говорить, было понятно, что звонит кто-то важный, какой-то такой же толстяк, но из другого кабинета этажом повыше, и Маша, торопясь чтоб не окликнули, ушла.
Идти домой не хотелось, да и что там делать? Надо было, наверняка, купить каких-то продуктов, может стирального порошка или соли. А есть у неё стиральный порошок? А соль? Есть? Как странно, что позавчера она всё помнила и знала, что ей делать, когда и как, а сейчас вот, как будто улитка, выцарапанная из своего панциря, не понимает вообще ничего. А спички? Нам нужны спички? У нас же газ на кухне?
Так она шла и шла, плетя из своих мыслей кокон, который обволакивал её, как шар, и создавал вокруг неё пустоту — вакуум и, если выглянуть из него наружу, то видно, как вокруг ходят люди, разговаривают и некоторые из них даже улыбаются, едут машины и течёт куда-то жизнь, но внутри него ничего почти не слышно, только эхо, и время тоже остановилось и стало тугим и душным. Люди обходили её стороной несколько дальше необходимого, и Маша думала, что это оттого, что она ужасно выглядит, пока не увидела своё отражение в витрине магазина, а когда увидела, то поняла — это потому, что шла она не одна. Отражение её двоилось в стекле и казалось, что за правым Машиным плечом стоит ещё одна Маша — более тёмная, более прозрачная и более пустая. «Это горе моё, — решила Маша, — теперь вот так и будет ходить за мной по пятам» и ей показалось, что та, вторая Маша, даже кивнула ей в ответ — да, подруга, ты права в кои-то веки и вот она я, с тобой теперь мы неразлучны, своди хоть меня в кино, я не знаю, или на каруселях покатай.
И потом Маша так и чувствовала за спиной своей, почти вплотную и чуть справа, ту тень: чувствовала, как она дышит ей в затылок, как неуклюже топает по асфальту и как пытается заглянуть ей в лицо, чтоб проверить всё ли в порядке и на месте ли потухший взгляд, стоят ли в глазах слёзы и нет ли на лице улыбки. Осваивалась, тварь.
Бродили так они почти что до вечера и, перед тем, как забирать Егорку, Маша зашла домой — занести сумки с продуктами и всем, что она накупила, всем, что попадалось ей под руку и казалось нужным. Петрович был трезв и ждал её.
— Пришла? Ну хорошо. Как у тебя? Отпросилась в отпуск? А за Егоркой сама пойдёшь или мне сходить? — засыпал он её вопросами, помогая нести сумки на кухню.
— А откуда у нас всё это? — спросила Маша про шницеля, консервы и пельмени в холодильнике.
— Это? Это Миша вчера в магазин сходил, я просил его.
— Мы же должны с ним рассчитаться.
— Не думаю, Маша. А это что ты купила? Тёрку?
— Да, я подумала, что нам нужна.
— Так у нас же есть, смотри, — вот. Две штуки. Ну, не пропадёт, правильно, а спичек-то теперь и до третьего пришествия хватит. И соли. Так что ты — сама в садик? Сходить с тобой? Я рядом не пойду, позорить не буду, ты не переживай.
— Петрович. Вот ты старый уже, а такой дурак бываешь. Именно о том, чтоб ты меня не позорил, я только и думаю день и ночь. Жди нас, вон шницелей нажарь, Егорка их любит, а мы скоро будем. А молоко-то у нас есть?
— Есть. Вот Миша вчера купил, а вот ты сегодня.
— Значит завтра все кашу есть будем, чтоб не прокисло. Готовься.
— Вот ты мне не угрожай только! Я, знаешь, воробей-то подстреленный, меня кашей не проймёшь.
— И кефир у нас тоже есть, — крикнул он ей уже вдогонку, — и булка! Всё у нас есть, ничего больше не покупай, слышишь?
Слышу, хотела сказать Маша, но не сказала — к чему тратить силы, если её ещё ждёт ночь без сна, да, пожалуй, что и не одна и силы пригодятся.
Часть II
Миша почти не выходил из дома — сбегает в магазины или ещё по какому поручению мамы и сидит в своей комнате: то старые фотографии смотрит, то книги читает, то просто в окно смотрит. Когда мама спрашивала его почему так, он отшучивался и Вилену Тимофеевну почти не пугало это его состояние — он был с ней, как обычно, учтив, в себе не замыкался и общался охотно, только держался чуть более отстранённо, чем раньше. И это, с одной стороны, было хорошо для неё (много времени проводила с сыном), но, с другой стороны, помня обычные его отпуска, когда чуть не раз в неделю он приводил знакомить с ней свою новую «вот точно уже будущую жену», всё-таки тревожило не на шутку.
— Мишенька, — постучалась она к нему в дверь, — можно? Я бельё постельное поменять.
— Мам, да и так можно, что ты как маленькая, повод какой-то всё ищешь: позавчера же бельё меняла.
— Я не как маленькая, а как воспитанная интеллигентная женщина! Пойдём, Миша, чаю попьём?
— А давай здесь, я сейчас на столе уберусь, тут вид из окна лучше.
— Эх, не зря папа себе эту комнату под кабинет выделил.
Комната была не самой большой, но из-за высоких потолков могла показаться и огромной. Солидный письменный стол, основательный, с двумя тумбами (теперь таких уже и не делают) стоял в комнате прямо посередине и, сразу видно, — был здесь главным. Большое окно выходило в соседний двор, в скверик с тополями, а из мебели, кроме стола, был только небольшой диван (на котором Миша и спал) с огромной картой мира на стене над ним и книжные шкафы от пола и до потолка, в которых за стеклом жили теперь не только книги, но и Мишины модели кораблей, собирал которые он с детства. Да и сейчас, иногда, клеил или мастерил сам.
Миша аккуратно сложил по стопкам разложенные на столе фотографии и какие-то свои записи, всё убрал в коробки и поставил в шкаф, потом помог маме с чашками и чайником.
— Поужинать, может, хочешь?
— Да нет, мама, обедали же недавно.
— Ну, как знаешь, тебе сахара сколько? Вот я что спросить у тебя хочу, только ты не обижайся на меня, будь так добр — ты отчего из дома не выходишь почти, сидишь тут днями и ночами, уж не в монастырь ли собираешься?
— Мам, ну скажешь тоже! Просто не хочется, настроения нет.
— А как же твои вечные романы, Миша? Я мама, и ты меня стесняешься, я понимаю, но я же вижу, что вот ты бегал день и ночь, как в горячке, за каждой юбкой и я, хоть и женщина, но гордилась даже тобой: какой ты у меня и красавец, и умница, и как легко сходишься, да, чего уж там, ещё легче расходишься со своими пассиями, а тут — как подменили тебя.
— Да надоело, мама. Вот честно, хочешь верь, а хочешь — нет, но скучно от этого и даже думать об этом скучно. Всё одно и то же и всё кончается ничем, а тут, видишь как: вот жизнь она есть, а вот ветерок дунул и нет её. Чего-то другого хочется, чего-то большего. Не слишком я высокопарен?
— В меру, вполне в меру…
В прихожей зазвонил телефон.
— Я возьму, — Вилена Тимофеевна вышла, — Миша, тебя!
— Алло.
— Миша, ты?
— Я, а вы кто?
— Не узнал? Такие вы, нынче, с глаз долой — из сердца вон.
— Петрович? Ты?
— А, вспомнил-таки! Слушай, я же по делу тебе звоню, давай без предисловий. Ты чем занимаешься вообще?
— Я? Да вообще ничем. А что, дело есть?
— Есть, Миша, есть. Ты приди к нам, слушай, зайди как-нибудь, ну, вроде как ко мне, или ещё по какому делу…
— А что случилось?
— Ничего. Ничего, Миша, не случилось и, боюсь, что ничего и не случится, если мер не принимать.
— Да ты о чём?
— Я о Маше. Она в отпуске же, но как тогда сходила, так выходит только Егорку в сад отвести и забрать.
— Плачет?
— Нет, уже нет, но и не живёт, вообще ничего, как призрак по квартире ходит, или у себя сидит и в окно смотрит, посадишь есть — ест, не посадишь — не ест. А что мне делать с этим, Миша? Я и так и этак, всё без толку, может, ты? Может, мы вдвоём? Ну сколько так будет продолжаться?
— Не знаю, Петрович, я не сказать что специалист в этих делах…
— Да бабник ты, Миша, сразу по тебе видать, может… ну…
— Что ну?
— Ну пригласишь там её куда, знаешь, отвлечёшь… как-нибудь. Что скажешь?
— Неправильно это как-то, Петрович, вот что я думаю.
— А ты меньше думай! Ты слушай, что тебе старшие говорят, а то вы со своими «правильно-неправильно» так и сидите в жопе вечно: то вам не так выглядит, это вам не так пахнет, тут люди что подумают… Сам-то как, в тоске небось, сидишь и куда себя деть не знаешь? Вот и она — так же. Ну так встретьтесь, поговорите, может, легче станет, может, вдвоём-то проще горе пережить, а? Не думал об этом? А, если кто осудит, что неправильно, так ты на меня всё вали — Петрович, мол, змей, искусил и заставил шантажом и обманом. Понял? Да что ты стучишь своими копейками, не видишь — говорю я? По лбу себе постучи, умник! Понял, спрашиваю? Давай там, сопли не жуй, тут очередь к таксофону. Так что я жду.
В трубке запикало.
— Кто это был, если не секрет?
— Это Петрович, старик, который в коммуналке с Машей живёт.
— А, знаю, Маша о нём рассказывала, милый довольно старик, судя по её рассказам. А чего он хотел?
— Хотел, чтоб я Машу отвлёк как-то, пока она совсем с ума не сошла.
— Ты?
— Я, мама, я! Именно так я и сказал. Слушай, мне одному побыть надо, ладно? Все вопросы — потом.
Миша не хамил, хотя был на грани, и Вилена Тимофеевна удивилась, отчего так резко переменилось его настроение, но, подумав, начала понимать отчего и опасаться, что добром это всё не кончится.
Звонок Петровича взволновал Мишу не на шутку, и оставаться дома, чтоб спокойно подумать, он не мог. Почти в чём был, надев только туфли, он вышел в соседний двор. Уже вечерело, в скверике было спокойно, пахло листвой и остывающими от дневного тепла стенами домов. Если бы не белые ночи, то, пожалуй, стало бы уже совсем темно. Усевшись под тополем, старым своим знакомцем, Миша подумал, что вот ведь как бывает — такая шикарная погода, при таких никудышных жизненных обстоятельствах.
— А ты подобрел, братишка, я смотрю! Стареешь! — Миша похлопал тополь.
Тополь угрюмо молчал в ответ — видимо, до сих пор не мог простить ему надписи «Миша+Люда», вырезанной на нём лет уж этак с десять назад перочинным ножиком, сразу после выпускных экзаменов в школе — когда Миша собирался жениться чуть ли не раньше, чем поступить в училище. С тех пор сколько уж имён было, приходило и уходило, а надпись эта до сих пор видна, почти заросшая, но вон она — смотрит с укором: эх, Миша, Миша, зря только кровь мне пустил.
Маша ему нравилась и, впервые увидев её на фотографии, он даже сказал Славе, что вот, надо же, как везёт некоторым олухам: ничего не делают, а на тебе, — призы получают! Дружба давала право на откровенность. Теперь, встретив её в жизни, он подумал, что у них всё могло бы получиться, но крамольность этой мысли испугала его не на шутку, и он старательно отогнал её прочь. А тут этот Петрович! И благородно помочь невесте погибшего друга и стыдно от того, что сам-то ты знаешь, что помогаешь не только от того, что весь из себя рыцарь, а и оттого ещё, что и самому эта невеста нравится и при других обстоятельствах ты бы бежал на штурм любых башен с любыми драконами, заломив рога за спину и трубя, как благородный олень. Но что если никому об этом просто не говорить? Никто же и не узнает, а Слава чего мог бы ещё желать, спроси его кто про такой поворот событий? Нет, ну правда? Чтоб она всю свою оставшуюся жизнь провела в гордом одиночестве, кутаясь в чёрное? Да и всю жизнь она не сможет, это как пить дать. Ну поболит и будет щемить какое-то время, а потом страх одиночества, неопределённость будущего и просто даже желание устроить свой быт, очевидно, толкнут её к новым отношениям, а повезёт или нет, это бабушка надвое сказала. Нет уж: Славу он знал хорошо и Слава был совсем не такой, чтоб желать своей любимой неизвестно чего. И если кому и предстояло стоять за его спиной, то пусть уж лучше это будет Слава. И мысли эти, которые Миша крутил в своей голове и так и этак, с одной стороны приносили облегчение и радовали, что можно вот так вот просто взять и решиться, а, с другой, — никак не могли найти верных путей, чтоб показать ему, что никакой он не подлец. В итоге Миша решил, что попробует, а там — как получится, но если даже ничего и не выйдет, то он всё равно будет помогать Маше с Егоркой столько времени, сколько того потребуется. На этом он остановился и принялся за то, что умел делать хорошо, — составлять план.
***
Дни шли друг за другом, не оставляя за собой следов: Маша не замечала их и сколько их прошло, не знала, да и знать не хотела. Если бы не Егорка, то и ночи от дней отличались бы мало: та же серая стена в окне была чуть темнее ночью, вот, пожалуй, и всё. Егорка неожиданно повзрослел, стал к ней более внимателен и даже меньше шалил (она не видела, что они творят в комнате у Петровича). И если раньше Маша чувствовала к нему любовь, безграничную, как космос, то теперь к этой чистой любви примешался откуда-то страх, и она стала бояться за него: не выпускала его руки из своей, когда они шли по улице, выходила с ним во двор, когда он бежал туда играть, по сто раз за ночь проверяла, хорошо ли он укрыт одеялом, щупала его лоб и слушала его дыхание и даже снова стала пробовать локтем воду, которую наливала ему в ванну. А однажды даже наорала на Петровича за слишком горячий суп, чем удивила и самого Петровича и Егорку.
— Ветер под носом есть, ничего, — Петрович не обиделся или, если даже и обиделся, то виду не показал.
— Ветер под носом? Это как? — удивился Егорка.
— А вот так, — и Петрович со всей силы подул на него, отчего оба рассмеялись, а Маше стало неудобно и потом она долго извинялась, а Петрович только отмахивался от неё рукой.
Пить он стал заметно меньше и в основном по ночам, когда они уже спали. Начал убираться в квартире (раньше не делал этого потому, что баба раз есть, то нечего мужику веником махать), каждое утро выходил провожать их и внимательно (но Маша не замечала) следил за каждым её жестом, каждым движением и каждым словом. По вечерам они обычно играли в лото или в домино, а однажды Петрович принёс колоду карт, но Маша замахала на него руками и категорически запретила.
— А чего такого-то, — не понял Петрович, — я обычную колоду принёс, без всяких мамзелей.
— Да ты что! Узнают ещё в садике!
— А откуда они узнают, если мы им не скажем? Правильно, Егорка?
— Да, Петрович, ещё и врать моего сына научи!
— И не тому ещё научу, не боись, Машутка!
Когда пришёл Миша, они как раз собирались за партию в лото.
— Миша? — удивилась Маша, открыв дверь.
— Помните? Это хорошо, можно заново не представляться!
— Миша! — Егорка явно обрадовался его приходу, он рассказывал маме, что никто с ним не разговаривал как со взрослым, кроме Славы и Миши, и Маша сейчас это вспомнила. И вспомнила про Славу, хотя и не забывала совсем, но старалась не думать и почувствовала, как в глазах опять щиплет.
— Я ненадолго, вы не расстраивайтесь, Маша. Егорка, держи, тут тебе мама передала кое-что.
— Ух ты! Глобус! Настоящий! Старинный!
— Ага. Говорит, что тебе понравился, когда в гостях у нас бывал. Вот тут тебе ещё напекла она всякого, ну и конфеты какие-то.
Эти воспоминания, как она ходила к Мишиной маме, когда ждала Славу, снова нахлынули и потащили назад, в ту депрессию, из которой она ещё не выбралась, но уже смогла хотя бы выглядывать наружу.
— Спасибо, Миша, — даже ей самой её тон показался чересчур сухим, — вы что-то хотели ещё?
— Маша, как тебе не совестно, — вступился Петрович, — хоть пройти пригласи человека!
— Ничего-ничего! Я на минутку, буквально! Маша, мы хотим пригласить вас с Егоркой завтра покататься по Неве.
— Вы с мамой?
— Нет, — и Миша засмеялся, — мы с экипажем нашим. У нас завтра день экипажа и мы собираемся, кто может, и меня попросили вас тоже привести. Славу вспоминать будем, говорить о нём. Вам, я думаю, нужно быть.
Маша запаниковала до слабости в ногах.
— Это нужно, Маша, — продолжил Миша, — и нам нужно и вам. И ему было бы нужно, понимаете?
— Я горячо поддерживаю выступающего! — высказал Петрович своё мнение.
— Мам, ну пожалуйста, ну давай пойдём!
Эта просьба Егорки всё и решила. Подумав, Маша осознала, что он истосковался по какому-то веселью, каким-то приключениям и по мужской компании, в конце концов.
— Хорошо, если это удобно, конечно, — согласилась Маша.
— Вот и чудесно! Петрович, ты, может, тоже с нами? — Не, не, не, не, не! Я с сорок пятого года к воде глубже ванны не подхожу! Наплавался вдоволь, спасибо уж!
— Как знаешь. Ну так я зайду завтра за вами в десять. До свидания.
Миша раскланялся и, пожав руки Егорке и Петровичу, ушёл.
— У него одеколон такой же, как у Славы, — зачем-то вслух сказала Маша.
— Да больно удивительно, да. Целых три сорта в магазине! — съязвил Петрович.
***
Готовиться к мероприятию Маша стала только наутро, — пообещав вчера быть, забыла об этом совсем (как и обо всём остальном забывала в последнее время), и только когда Егорка разбудил её в восемь, уже одетый и даже в кепке, спохватилась, что надо бы как-то подготовиться. Миша (в парадной форме) пришёл сильно заранее, едва за девять часов, и Маша попросила их всех посидеть в комнате у Петровича и не мешаться у неё под ногами и, пока собиралась, слышала, как они там что-то оживлённо обсуждают и даже над чем-то смеются, и Егорка смеялся тоже, что было ей особенно приятно: его смеха, такого задорного и звонкого, она не слышала уже давно и только сейчас поняла это и, поняв, осознала, как же сильно ей этого не хватало.
На причале их уже ждали, и Маша, не зная сколько это — экипаж, удивилась тому, как их много, но потом оказалось, что набралось их здесь едва половина: приехать смогли не все и только из ближайших к Ленинграду мест, да из Белоруссии и с Украины — остальные либо не успевали, либо не ехали вовсе. Большинство было с жёнами и детьми, и Егорка сразу убежал знакомиться. Маша встревожилась было, но её тут же успокоили — за детьми присмотрят старшие дети и у них так заведено всегда и волноваться не следует. Народу вокруг была тьма-тьмущая: лето, хорошая погода и не только туристы, но и сами жители с удовольствием гуляли вдоль набережных, по проспектам, улицам и вообще везде, куда можно было дойти ногами. Их группа выделялась и в такой толпе: почти все мужчины были в парадной форме, многие с орденами и медалями, но удивляли даже не они (от них-то все, по умолчанию, ожидали организованности и порядка), а их семьи, — жёны и дети, которые тоже вели себя слаженно и без суеты, хотя ими никто не командовал. Только малыши, в возрасте Егорки или около того, шалили без оглядки и старшие дети, приглядывая за порядком, были не очень довольны и подчёркнуто строги, явно тяготясь своими обязанностями воспитателей, но отнюдь не манкируя ими.
Зафрахтовали большой прогулочный катер, и Миша рассказал Маше их план: они выходят в залив, там пускают в плавание венок в память о погибших товарищах, а потом едут в Пушкин, на дачу к их старшему помощнику на торжественный стол из шашлыков и всякого остального.
— Миша, а вы ничего не говорили мне про дачу, — укорила его Маша.
— Боялся, что не поедете, — признался Миша, — вину свою полностью признаю и сердечно раскаиваюсь в этом злодеянии!
С Машей все знакомились, но она почти никого не запоминала: лица, имена, сочувственные фразы и подбадривающие слова мелькали перед ней разноцветным калейдоскопом, то складываясь в стройные узоры, то вновь рассыпаясь. На катере ей нравилось, нравилось лететь на нём куда-то и подставлять лицо ветру и смотреть на Егорку, который был в восторге от того, что они идут (его быстро научили говорить «идут» вместо «плывут») в самое настоящее море. Восторга своего, по-детски непосредственно, он не скрывал, а делился им с окружающими, как самый настоящий мот и кутила, заражая всех вокруг восторгами от такого, казалось бы, не сверхъестественного события, да ещё и окрашенного траурными тонами.
Выйдя в море, остановились. Налив себе по рюмке, стоя без головных уборов, выслушали речь старпома о погибших товарищах, о памяти, которую они должны теперь носить в своих сердцах всегда и жить не только за себя, но и за тех парней, и к каждому своему поступку, каким бы мелким и незначительным он не казался, ставить мерку справедливости не только свою, но и другую, — своих погибших друзей.
Выпили, опустили венок в воду, и капитан катера дал длинный прощальный гудок. Долго стояли у борта, смотря на уплывающий венок. Рассказывали по очереди истории и про Славу, и про Сашу, и истории эти из торжественных неумолимо перерастали в интересные и весёлые. Маша сначала не осуждала, нет, но удивлялась, как они даже смеются, но потом поняла, что да — именно так и правильно, именно такой след и должен оставлять за собой человек: не из горя, печалей и вздохов, а из радости и смеха, а горе и печаль отлично могут уместиться на венке и плавать себе по морям да океанам сколько им влезет.
И Миша тоже рассказывал: одну уморительную историю про то, как Слава купил себе какие-то шикарные ботинки, а Миша с друзьями заставил его их обмывать, и они потратили в ресторане денег в пять раз больше, чем стоили те ботинки, которые, в итоге, развалились через два месяца, но зато то как они их обмывали, вспоминали потом долго! И про Машу тоже рассказывал (посмотрел на неё, спрашивая разрешения — она утвердительно кивнула) и Миша рассказал, как в тот день, когда Слава познакомился с Машей, была отвратительная погода и Миша, проводив свою даму из театра, долго не мог взять такси и приехал домой промокший до костей, промёрзший до дна и злой, напился парацетамола, чтоб не заболеть и лёг спать, но тут прибежал Слава и он был так возбуждён, так счастлив, что носился по квартире и не мог найти себе места и всё время тормошил Мишу, чтоб тот немедленно встал и выслушал его: так много счастья, говорил Слава, так много надежд и радужных ожиданий, что я непременно должен ими поделиться, иначе лопну, а ты, чёрствый Миша, как сухарь, а называешься ещё моим другом, и если немедленно не встанешь, то весь оставшийся отпуск вынужден будешь отчищать с поверхностей квартиры ошмётки моего богатого внутреннего мира. И Миша встал — так заразительна была радость Славы, и достал из специального шкапчика бутылку армянского коньяка с выдержкой чуть не в пятьдесят лет, и они пили этот коньяк из чайных чашек (не хотели лезть за бокалами и будить маму), но мама всё равно проснулась, потому что Слава не мог говорить тихо и, захлёбываясь от восторга, рассказывал Мише, какая Маша красавица, какой Егорка умница и как они хорошо провели время. И мама возмутилась, что они пьют коньяк для торжественных случаев, даже не разбудив её, непосредственную владелицу этого коньяка, и ну-ка, дайте мне немедленно чашку, да кому нужны эти бокалы, не каждый день в их доме любовь рождается, бокалы слишком чопорны для такого случая, а вот чайные чашки — в самый раз!
Маша, слушая рассказ, снова плакала, но слёз своих не стеснялась, хотя прежде проявление крайних эмоций на публики не допускала, — вокруг неё плакали многие женщины и некоторые мужчины тоже тёрли глаза, жалуясь на солёные брызги волн. После этого стало легче и Маша подумала, что Миша был прав вчера, когда не сказал ей про дачу — она точно отказалась бы, а теперь ни секундочки не жалеет, что согласилась и, конечно же, поедет с ними.
Сбор объявили на площади у вокзала в Пушкине, на тот случай, если кто отстанет, но все так и прибыли туда дружной гурьбой и оттуда уже направились на дачу, которая оказалась на поверку не то сарайчиком с раздутыми амбициями, не то маленькой избёнкой в полтора этажа (на чердаке у старпома была оборудована спальня, и на этом основании он называл его мансардой). Небольшой участок в шесть соток был ухожен, и во дворе стоял уже мангал. Мужчины дружно взялись за работу, попросив женщин и детей не путаться под ногами, а погулять в лесу и у ручья часа два. Егорке, на правах новенького, выдали самый настоящий сачок и велели наловить к десерту бабочек и кузнечиков.
— Вы что, — удивился Егорка, — будете есть бабочек?
— Нет, — успокоил его кто-то из старших детей, — это они так над нами шутят. Мы же дети.
— Вы только не напейтесь тут без нас! — строго наставляла жена старпома.
— Обижаешь, душа моя, мы обязательно напьёмся! Непременно и в стельку, но только вы этому никак не сможете помешать! В сад! Будьте добры, — в сад!
Далеко не уходили и гуляли тут же, в чахлом лесочке и небольшом поле сразу за дачей. Машу без внимания не оставляли, но и какой-то навязчивости, как бывало с ней не раз в незнакомых компаниях, она не ощущала. Маша вообще не любила незнакомых людей, особенно когда те собирались компаниями и она в них по какой-то причине присутствовала, томясь лишь одной мыслью в таких ситуациях — ну когда уже можно будет отправиться домой. Тут же, не прошло и полдня, а уже казалось, что почти всех их она хорошо знает, хотя имен и половины пока не выучила. Маша наблюдала за мужчинами, как те, разделившись на группы, ловко орудовали во дворе: кололи дрова, разжигали мангал, сколачивали из досок длинный стол, выносили на двор продукты, резали, смешивали, раскладывали и спорили, кому лучше доверить мясо. Она узнала, что ей здесь все ужасно рады и многие уже слышали о ней заранее и ждали их с Егоркой у себя, но сейчас, хоть так и сложилось, Маше не следует терять с ними связь и, даже наоборот, нужно всячески поддерживать, потому как они смогут помочь и ей и Егорке, вон уже какой большой и скоро поступать, а связи не там, так там, но имеются и чего всё тянуть одной, когда вон — можно всем колхозом. А может, всё-таки, она решится и приедет к ним? Там всё легко вообще устроить, а, по факту, и стаж северный и денег побольше, ну да, ну климат, ну полярная ночь совсем не подарок, но быстро привыкаешь и, что главное, никогда не потеряешься, не будешь один (только если сам этого не захочешь) и любой человек, с которым ты будешь знакомиться уже что-то будет знать о тебе ещё до знакомства, а ты — о нём. И это — хорошо, да и детям — все рядом, друзей куча, а на лето можно выезжать, да вот в тот же Ленинград, чтоб совсем не одичать без цивилизации, но вот они, сколько тут, месяца ещё нет, а уже нет-нет, да и потянет назад. Странно всё это звучит, но работает без сбоев.
Женщины разговаривали с ней и по очереди и вместе, и Маша даже и вправду начала думать, что да, мысль вполне хорошая, ну а почему бы всё не поменять в своей жизни, что терять-то, когда по факту и терять-то нечего? А потом мужчины позвали их к столу. Сбитых лавок на всех не хватило, и усадили за стол сначала детей, потом женщин, а мужчины в основном стояли где придётся и ухаживали. Скоро начало темнеть, заголосили сверчки. Разговоры почти утихли, велись медленно и степенно, и Маше вдруг нестерпимо захотелось остаться тут, а не ехать домой. Тут было спокойнее и не надо быть одной, тут можно было даже и немного улыбаться и это не казалось неестественным. И тут, что самое главное, все её понимали и никому не нужно было ничего объяснять. Миша, она видела, выпивал мало и на все удивлённые вопросы отвечал, что он же не один, ему ещё Машу с Егоркой домой доставлять и от этого тоже было спокойно: не нужно было переживать успеют ли они на метро и как вообще отсюда выедут. Миша вызывал у неё доверие и ощущение того, что на него можно положиться.
Когда уже совсем стемнело и светила только лампочка на переноске, которую соорудили и закрепили на тут же вкопанном столбике, старпом сказал, что гулять так гулять и, разбудив соседа, съездил с ним куда-то и привёз коробку мороженого. Дети пришли в натуральный восторг, и Егорка даже попытался отдать своё мороженое девочке, которой не хватило, и девочка долго отказывалась, а потом они ели его вдвоём, облизывая по очереди и Маша порадовалась, что вот какой молодец растёт, какой рыцарь — мороженого не пожалел.
Разъезжались поздно и в Ленинграде Миша взял такси от Витебского вокзала — ехать и на метро было совсем ничего, но Егорка уже откровенно клевал носом. — Тебе понравилось, сынок? — спросила Маша, качая его на руках в машине.
— Да, мама, у меня теперь столько друзей! Ты видела? А когда мы ещё поедем?
— Послезавтра, — неожиданно вставил Миша, — в Петергоф. Гулять. Там не все будут, но подружка твоя точно придёт.
«Надо же, — подумала Маша, — как сговорились, прямо».
Петрович дома наворчал на них за то, что они так поздно и заставляют его переживать, на что Миша резонно возразил, что раз Петрович их с ним отпустил, то мог бы уже и довериться. Петрович согласился, что это довольно логично и он об этом просто не подумал. Миша вручил ему кастрюльку с шашлыком и какой-то там зеленью, а когда Петрович посетовал на то, что всухомятку есть уже не может, сунул ему ещё и бутылку, завёрнутую в газету. Егорка уснул прямо в прихожей, едва разувшись, и Миша отнёс его в комнату на кровать, категорически отстранив от этого Машу, ещё чего не хватало, столько мужчин в доме, а она будет спину надрывать. От предложения Петровича составить ему компанию отказался, сославшись на усталость и что вообще это неудобно, пожелал всем спокойной ночи и, подтвердив, что послезавтра они едут в Петергоф, ушёл. Задёргивая шторы в комнате, Маша выглянула в окно и увидела, как Миша вышел из подъезда и в тёмном дворе он был так похож на Славу, что Маша подумала: обернётся он или нет, но он не останавливаясь и не оборачиваясь, вышел из двора — явно спешил. Да и к чему бы ему оборачиваться, глупости какие в голову лезут.В эту ночь, первую с того дня, как она узнала о гибели Славы, Маша уснула, едва коснувшись подушки и проснулась поздним утром от того, что Егорка громко рассказывал на кухне Петровичу о том, где они вчера были, что делали и с кем познакомились.
***
Мишу прямо подмывало оглянуться и посмотреть на окна, но или была бы там Маша или нет — в любом случае выглядело бы это крайне неудобно. Ну вот он оборачивается, и в окне стоит Маша, и что? Махать ей рукой? Кланяться? К чему это и как это будет выглядеть? Клоунада же. А нет её в окне — потом переживай и страдай, как мальчишка. Нет уж, лучше сделать вид, что ужасно торопишься!
Хотя торопиться до послезавтра Мише было некуда. Выйдя из арки двора, он пошёл дальше медленно и не торопясь, наслаждаясь летним вечером и ночным городом, который любил с самого детства, и чем старше становился, тем увереннее считал, что прекраснее ночного Ленинграда не сыщешь во всём мире. Да и желания искать не возникало. Старые дворы, улицы и проспекты пусть и были опошлены современным освещением, но своего изящества от этого не теряли — очень легко было представить себе, как всё это вокруг было ещё молодым, новым и дышало жизнью, наполнялось легендами, преданиями и традициями и зачало в себе, а потом долго носило и рождало то, что теперь отличало жителя Ленинграда от любого другого, пусть и самого замечательного жителя любого города страны: эту смесь интеллигентности, своеобразного юмора и северной, промозглой и промокшей меланхолии, рождённой обилием прекрасного вокруг, которую некоторые полагают за высокомерность, но это просто от поверхностного мышления, простим их, как Миша прощал.
— Что делать в твоём Ленинграде? — спрашивали его друзья, планируя отпуск. — Айда с нами, в Крым! Там же море, понимаешь, радостные люди и женщины в купальниках, палатки поставим, костры, гитары, вино и никаких условностей!
— Бедненькие, — жалел их Миша, — это надо же так мозгом травмироваться, чтоб Айвазовского на костры с гитарами добровольно менять! Это же как нужно лениться, чтобы предпочесть женщину, которая полна загадок, пока в пальто и шляпке, на ту, которая в купальнике, и даже раздевать её неинтересно — и так же всё понятно. Как же весь вот этот процесс от знакомства до первого поцелуя в ваших палатках происходит? Тебя как зовут? А меня — так: пошли целоваться? Так, что ли? А как же вся вот эта вот охота, когда выслеживаешь жертву, сидишь в засаде, расставляешь силки, примани-ваешь, распуская перья, прикармливаешь прекрасным и до последнего момента непонятно, чем это всё закончится! Это же, ребята, как первый раз теорию сопротивления материалов сдавать — дрожь в коленках, пока не вышел! Эх, жаль мне вас, серые, убогие людишки, и как хорошо, что вас так мало в Ленинграде: нам, нормальным самцам, свободнее дышится! Езжайте в свой Крым, а мы со Славкой в Ленинград! Да, Славка? Вот — один нормальный человек в экипаже, не считая нас со старпомом!
Славка, Славка… Как же так, дружище, а? Как ты столько места занимал, что ушёл и всё — столько пустоты вокруг стало, что кто бы мог подумать, что так ценен в моей жизни, что и поговорить теперь не с кем… Ну как, есть с кем, но не хочется: тот глупый, тот жадный, этот умничает всё время и высокомерен, как индюк, этот не понимает тебя, а только делает вид, хотя всё равно видно, что ни черта не понимает, у того и проблем нет никаких, но что ни скажи, то всё у него уже было, только много хуже… А мы с тобой столько лет, да, Славка, и не ругались ведь ни разу, ни разу ничего не делили, а только спорили, кто из нас кому должен уступить. Ну и что теперь мне делать, Славка? А с Машей ты не подумай, я серьёзно всё, я, не как раньше, я первый раз чувствую, что если не выйдет, то страдать буду, а не дальше побегу. Ты прости меня, ладно? Я, вроде как, всё равно чувствую себя виноватым перед тобой за то, что так думаю, но я попробую, Славка, хорошо?
Миша шёл медленно и разговаривал сам с собой долго, и разговор этот не удовлетворял его никак, но проговорить это нужно было всё равно хоть с кем, так почему бы не с Невским проспектом? Он так же, как и большинство людей, равнодушен к твоим душевным терзаниям, но хотя бы слушать умеет и не перебивает, а молча стелется под ноги, мигает фарами и шевелит тенями в знак особого расположения к тебе и к твоей именно проблеме, хоть на веку своём сколько он их повидал, — уж не больше ли, чем звёзд в небе?
Единственное, чего Миша не мог решить, так это говорить ли об этом с мамой. Мама его, обычно чуткая и внимательная ко всем (сейчас таким мелким и смешным) проблемам своих детей, всегда и неизменно встававшая на их сторону, в этот раз (почему-то был уверен Миша) осудит его непременно. И пусть, конечно, осуждения её он не боялся, а вот неизменно последовавшим бы за этим (а отступать Миша не собирался) охлаждением их отношений был бы не рад.
На чугунных перилах Аничкова моста сидела нахохлившаяся чайка — людей она отчего-то не боялась, и люди, смеясь, показывали на неё пальцами, но она, не понимая смысла этих звуков и поэтому не обижаясь на них, смотрела немигающим взглядом на толпу и словно ждала кого-то. Миша, поглощённый своими мыслями, прошёл мимо, не заметив её и едва не сбив рукавом. Чайка обиженно каркнула ему вслед и, упав с моста к воде, расправила крылья и заскользила над Фонтанкой в сторону Гутуевского острова. Дождалась ли она того, чего хотела или просто её отдых после длительного перелёта окончился… Да кто её знает — она же просто чайка.